А. Фадин
Модернизация через катастрофу?
(Не более чем взгляд...)
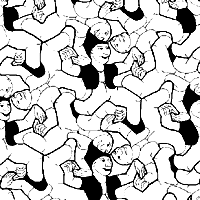
![]() I. Интерпретация
перестройки
I. Интерпретация
перестройки
![]() 1. Крах
"коммунизма" казался
современникам одновременно
неизбежным и невозможным, а
оказался неожиданным. Вне
зависимости от способа
интерпретации перестройки и
постперестройки все аналитики
сходятся на признании глубокого
социетарного кризиса, охватившего
советское общество в последние
десятилетия его существования.
Вопрос, однако, состоит в том, могла
ли система выжить в принципе? Была
ли она принципиально реформируема?
Обладала ли мотивами и механизмами
саморазвития, эволюции по
собственным основаниям, в рамках
своей собственной логики развития?
1. Крах
"коммунизма" казался
современникам одновременно
неизбежным и невозможным, а
оказался неожиданным. Вне
зависимости от способа
интерпретации перестройки и
постперестройки все аналитики
сходятся на признании глубокого
социетарного кризиса, охватившего
советское общество в последние
десятилетия его существования.
Вопрос, однако, состоит в том, могла
ли система выжить в принципе? Была
ли она принципиально реформируема?
Обладала ли мотивами и механизмами
саморазвития, эволюции по
собственным основаниям, в рамках
своей собственной логики развития?
![]() Самое
поразительное, что происшедшее в
бывшем "втором мире" (зоне
"реального социализма") за
десятилетие после смерти Брежнева
сколь-либо внятного ответа на этот
вопрос не дает. С одной стороны,
события 1990 - 1993 гг. в СССР и России не
оставляют вроде бы места
дискуссиям: здесь произошел именно крах
системы, и рассыпалась она как
раз в результате попыток ее
реформировать.
Самое
поразительное, что происшедшее в
бывшем "втором мире" (зоне
"реального социализма") за
десятилетие после смерти Брежнева
сколь-либо внятного ответа на этот
вопрос не дает. С одной стороны,
события 1990 - 1993 гг. в СССР и России не
оставляют вроде бы места
дискуссиям: здесь произошел именно крах
системы, и рассыпалась она как
раз в результате попыток ее
реформировать.
![]() Однако, с другой
стороны, то, что по горячим следам
августа 1991 года казалось тотальным
крахом системы, сегодня
представляется многим лишь
некоторым логическим - и не
последним! - этапом в ее
эволюции. С этой точки зрения
социально-политическая система не
рухнула, она сильно мутировала,
но выжила и приспособилась.
Реальное удержание, более того,
новая легитимация своей власти
традиционными советскими элитами
(этот факт подтверждается
практически всеми
социологическими исследованиями)
может служить здесь мощнейшим, но
далеко не единственным аргументом.
Если же иметь в виду
китайско-вьетнамский вариант
эволюции - мощный тектонический
рыночный сдвиг в недрах
"азиатской модели социализма",
- то вопрос о нереформируемости
коммунизма звучит уже совершенно
по-иному.
Однако, с другой
стороны, то, что по горячим следам
августа 1991 года казалось тотальным
крахом системы, сегодня
представляется многим лишь
некоторым логическим - и не
последним! - этапом в ее
эволюции. С этой точки зрения
социально-политическая система не
рухнула, она сильно мутировала,
но выжила и приспособилась.
Реальное удержание, более того,
новая легитимация своей власти
традиционными советскими элитами
(этот факт подтверждается
практически всеми
социологическими исследованиями)
может служить здесь мощнейшим, но
далеко не единственным аргументом.
Если же иметь в виду
китайско-вьетнамский вариант
эволюции - мощный тектонический
рыночный сдвиг в недрах
"азиатской модели социализма",
- то вопрос о нереформируемости
коммунизма звучит уже совершенно
по-иному.
![]() И все же для
современников и свидетелей событий
в России происшедшее
представляется
социально-политической
катастрофой коммунизма, революцией
со всеми ее атрибутами - героикой,
кошмарами, пошлостью. Подверглись
разрушению сами основы привычных
укладов жизни миллионов людей -
причем чаще всего совсем не те,
которые подвергались
идеологизированной критике
противников системы. Правда,
структуры повседневности не
разрушены "до основанья",
механизмы их воспроизводства
действуют - и это главное отличие
революции политической от
социальной, не просто меняющей, но
взрывающей сами основания жизни.
И все же для
современников и свидетелей событий
в России происшедшее
представляется
социально-политической
катастрофой коммунизма, революцией
со всеми ее атрибутами - героикой,
кошмарами, пошлостью. Подверглись
разрушению сами основы привычных
укладов жизни миллионов людей -
причем чаще всего совсем не те,
которые подвергались
идеологизированной критике
противников системы. Правда,
структуры повседневности не
разрушены "до основанья",
механизмы их воспроизводства
действуют - и это главное отличие
революции политической от
социальной, не просто меняющей, но
взрывающей сами основания жизни.
![]() Тем не менее цена
перехода от госсоциализма к
обществу, открытому для рыночной
эволюции, представляется
значительной части общества
катастрофической для их
собственной жизни, а потому
неприемлемой. Но были ли у
советского общества иные варианты?
Тем не менее цена
перехода от госсоциализма к
обществу, открытому для рыночной
эволюции, представляется
значительной части общества
катастрофической для их
собственной жизни, а потому
неприемлемой. Но были ли у
советского общества иные варианты?
![]() Очевидно, что
горбачевская перестройка являла
собой упущенный (точнее -
проигранный) антиреволюционный
вариант консервативной эволюции
социально-политической системы - в
обход катастрофы, без обвального
крушения несущих конструкций
социального целого, с сохранением
рамочных институтов политической
системы КПСС и СССР.
Очевидно, что
горбачевская перестройка являла
собой упущенный (точнее -
проигранный) антиреволюционный
вариант консервативной эволюции
социально-политической системы - в
обход катастрофы, без обвального
крушения несущих конструкций
социального целого, с сохранением
рамочных институтов политической
системы КПСС и СССР.
![]() Отчасти этот
путь описывается "китайской
моделью" - но лишь метафорически,
ибо советское общество имеет по
большинству параметров совершенно
иную природу. Это -
урбанизированное, индустриальное
общество сплошной грамотности, с
крайне низким (последние годы -
отрицательным) уровнем прироста
населения, несопоставимо более
"модернизированное" и
информированное, открытое вовне с
точки зрения ориентиров
потребительского поведения и
системы ценностей большинства
населения.
Отчасти этот
путь описывается "китайской
моделью" - но лишь метафорически,
ибо советское общество имеет по
большинству параметров совершенно
иную природу. Это -
урбанизированное, индустриальное
общество сплошной грамотности, с
крайне низким (последние годы -
отрицательным) уровнем прироста
населения, несопоставимо более
"модернизированное" и
информированное, открытое вовне с
точки зрения ориентиров
потребительского поведения и
системы ценностей большинства
населения.
![]() С другой стороны,
советское общество гораздо более
"специали-зировано", т.е. зашло
в обобществлении, в своей
"социалистической эволюции"
так далеко, что никакая его
реставрация уже невозможна. В нем
отсутствуют не только основные
социальные субъекты, но часто и
"генетическая память" о том,
как эти субъекты должны
действовать в соответствующих
ситуациях. (Характерным признаком
степени исторической
"невозвращаемости"
постсоветского общества к
досоветским нормам и системе
собственности может служить
практически нулевая значимость
проблемы реституции в российском
общественном сознании - в отличие
не только от восточноевропейских,
но и прибалтийских стран.
Возвращать некому и нечего,
реституция невозможна так же, как и
реставрация.)
С другой стороны,
советское общество гораздо более
"специали-зировано", т.е. зашло
в обобществлении, в своей
"социалистической эволюции"
так далеко, что никакая его
реставрация уже невозможна. В нем
отсутствуют не только основные
социальные субъекты, но часто и
"генетическая память" о том,
как эти субъекты должны
действовать в соответствующих
ситуациях. (Характерным признаком
степени исторической
"невозвращаемости"
постсоветского общества к
досоветским нормам и системе
собственности может служить
практически нулевая значимость
проблемы реституции в российском
общественном сознании - в отличие
не только от восточноевропейских,
но и прибалтийских стран.
Возвращать некому и нечего,
реституция невозможна так же, как и
реставрация.)
![]() Другим важнейшим
граничным условием "китайского
сценария" для России являлась
своеобразная историческая зрелость
социальной структуры.
Другим важнейшим
граничным условием "китайского
сценария" для России являлась
своеобразная историческая зрелость
социальной структуры.
![]() В отличие от
включенных в жестко авторитарную
вертикаль и ослабленных
репрессиями "культурной
революции" китайских ганьбу,
советская номенклатура достигла в
России за послесталинские
десятилетия такой степени зрелости
и независимости от "центра",
которые делали невозможным
проведение ее руками реформ,
противоречащих ее же интересам.
Хрущевская оттепель означала, в
сущности, эмансипацию
номенклатуры, начало ее
становления как элиты, как "класса
власти", который в СССР
оказался сильнее "власти
класса" (олицетворяемой
"центром") задолго до начала
перестройки, что показало уже
свержение Хрущева.
В отличие от
включенных в жестко авторитарную
вертикаль и ослабленных
репрессиями "культурной
революции" китайских ганьбу,
советская номенклатура достигла в
России за послесталинские
десятилетия такой степени зрелости
и независимости от "центра",
которые делали невозможным
проведение ее руками реформ,
противоречащих ее же интересам.
Хрущевская оттепель означала, в
сущности, эмансипацию
номенклатуры, начало ее
становления как элиты, как "класса
власти", который в СССР
оказался сильнее "власти
класса" (олицетворяемой
"центром") задолго до начала
перестройки, что показало уже
свержение Хрущева.
![]() Сила и
социальная зрелость номенклатуры в
значительной мере предопределили
практическую невозможность
авторитарной и управляемой
рыночной модернизации.
Сила и
социальная зрелость номенклатуры в
значительной мере предопределили
практическую невозможность
авторитарной и управляемой
рыночной модернизации.
![]() Возможно, если бы
соответствующие шаги были
предприняты "центром" в 1950 -
1960-е годы, у "китайского
сценария" были бы существенные
шансы. Историческая легенда
связывает подобную развилку с
"холодным летом 1953 года", с
гипотетическим приходом к власти
Лаврентия Берии, цинично
пренебрегавшего
партийно-коммунистическими
догмами и полагавшего, как гласит
апокриф, что его личная власть
нисколько не пострадает от
роспуска колхозов, экономической
самостоятельности предприятий и
введения частной собственности.
Возможно, если бы
соответствующие шаги были
предприняты "центром" в 1950 -
1960-е годы, у "китайского
сценария" были бы существенные
шансы. Историческая легенда
связывает подобную развилку с
"холодным летом 1953 года", с
гипотетическим приходом к власти
Лаврентия Берии, цинично
пренебрегавшего
партийно-коммунистическими
догмами и полагавшего, как гласит
апокриф, что его личная власть
нисколько не пострадает от
роспуска колхозов, экономической
самостоятельности предприятий и
введения частной собственности.
![]() Как могут
проводиться подобные повороты,
показал Китай. Реальность выбора
такого рода остро чувствовал и
Горбачев, заявивший в одной из
поездок по стране, что многие от
него ждут команды: "огонь по
штабам", но не дождутся - он такой
команды не отдаст, потому что
совершенно неясно, где этот огонь
тогда остановится.
Как могут
проводиться подобные повороты,
показал Китай. Реальность выбора
такого рода остро чувствовал и
Горбачев, заявивший в одной из
поездок по стране, что многие от
него ждут команды: "огонь по
штабам", но не дождутся - он такой
команды не отдаст, потому что
совершенно неясно, где этот огонь
тогда остановится.
![]() 2. И все же
главным социальным фактором,
блокировавшим
консервативно-реформистский путь
эволюции советской
госсоциалистической системы, стал
ею же порожденный массовый
советский средний класс (ССК) -
частично пресловутая
интеллигенция, частично
многомиллионная (порядка 30 - 40 млн.)
"генеральная совокупность"
квалифицированных работников.
2. И все же
главным социальным фактором,
блокировавшим
консервативно-реформистский путь
эволюции советской
госсоциалистической системы, стал
ею же порожденный массовый
советский средний класс (ССК) -
частично пресловутая
интеллигенция, частично
многомиллионная (порядка 30 - 40 млн.)
"генеральная совокупность"
квалифицированных работников.
![]() Само
существование этой страты как
именно среднего класса часто
подвергалось в советологии
сомнению или даже отрицанию - по
вполне понятным причинам. Выявить
его пределы, сформулировать
сколько-нибудь однозначно
характеристики - исходя из
классических представлений о
социальной группе - крайне сложно.
Можно сколь угодно долго
издеваться над этим "средним
классом", объявлять его
несуществующим или совсем не
средним, социальным мифом или
"сказкой", но для
современников это была несомненная
эмпирическая
социально-психоло-гическая
реальность, и, возможно, читатели
этого текста могут подтвердить ее
на основе простого самоанализа,
хотя бы и преломленного позицией
ex-post.
Само
существование этой страты как
именно среднего класса часто
подвергалось в советологии
сомнению или даже отрицанию - по
вполне понятным причинам. Выявить
его пределы, сформулировать
сколько-нибудь однозначно
характеристики - исходя из
классических представлений о
социальной группе - крайне сложно.
Можно сколь угодно долго
издеваться над этим "средним
классом", объявлять его
несуществующим или совсем не
средним, социальным мифом или
"сказкой", но для
современников это была несомненная
эмпирическая
социально-психоло-гическая
реальность, и, возможно, читатели
этого текста могут подтвердить ее
на основе простого самоанализа,
хотя бы и преломленного позицией
ex-post.
![]() Советская
социальная пирамида носила
искусственно уплощенный характер.
В определенном смысле практически
все советское общество было
"осреднено". Социальные
различия имели характер, с одной
стороны, более горизонтальный (т.е.
пространственный, региональный),
нежели вертикальный (по стратам), а
с другой - более
культурно-"сознанческий",
нежели доходно-имущественный. (Хотя
при этом разрыв в потреблении и
качестве жизни был много больше,
чем в доходах.) С этой точки зрения
среднего класса в западном смысле,
как социальной группы, четко
локализуемой с помощью измеряемых
параметров, в СССР действительно не
существовало.
Советская
социальная пирамида носила
искусственно уплощенный характер.
В определенном смысле практически
все советское общество было
"осреднено". Социальные
различия имели характер, с одной
стороны, более горизонтальный (т.е.
пространственный, региональный),
нежели вертикальный (по стратам), а
с другой - более
культурно-"сознанческий",
нежели доходно-имущественный. (Хотя
при этом разрыв в потреблении и
качестве жизни был много больше,
чем в доходах.) С этой точки зрения
среднего класса в западном смысле,
как социальной группы, четко
локализуемой с помощью измеряемых
параметров, в СССР действительно не
существовало.
![]() Ни денежные
доходы, ни должностное положение и
место в распределительной системе
сами по себе не описывали эту
страту исчерпывающе определенно.
Ни денежные
доходы, ни должностное положение и
место в распределительной системе
сами по себе не описывали эту
страту исчерпывающе определенно.
![]() Ее контуры
очерчивала, пожалуй, лишь смутно
формулируемая совокупность
налагаемых друг на друга признаков:
образование и квалификация, место в
должностной иерархии, культурные и
потребительские ориентации, образ
и стиль жизни (бюджет времени, набор
досуговых занятий, круг чтения и
зрелищ, определенный язык и
знаковая среда, общая "шкала
престижа") и даже место
жительства. В этой ситуации
зачастую важнее была не столько
занимаемая индивидом социальная
позиция, не то, кем он был формально
и фактически, сколько его
социальное самоопределение - то,
что он принимал как
социально-групповые ценности и
нормы. В определенном смысле
советский средний класс был
гораздо более группой сознания,
нежели классической группой
интересов.
Ее контуры
очерчивала, пожалуй, лишь смутно
формулируемая совокупность
налагаемых друг на друга признаков:
образование и квалификация, место в
должностной иерархии, культурные и
потребительские ориентации, образ
и стиль жизни (бюджет времени, набор
досуговых занятий, круг чтения и
зрелищ, определенный язык и
знаковая среда, общая "шкала
престижа") и даже место
жительства. В этой ситуации
зачастую важнее была не столько
занимаемая индивидом социальная
позиция, не то, кем он был формально
и фактически, сколько его
социальное самоопределение - то,
что он принимал как
социально-групповые ценности и
нормы. В определенном смысле
советский средний класс был
гораздо более группой сознания,
нежели классической группой
интересов.
![]() Хотя границы ССК
нельзя однозначно свести к уровню
жизни, некоторые материальные
параметры для "взвешивания"
этой общности, ключевой для
понимания динамики российской
жизни, можно все-таки нащупать
(например, совокупный тираж
столичных либеральных изданий в
конце 80-х, или оценки аудитории
западных радиостанций в СССР,
или примерное количество семей,
владеющих автомобилями).
Хотя границы ССК
нельзя однозначно свести к уровню
жизни, некоторые материальные
параметры для "взвешивания"
этой общности, ключевой для
понимания динамики российской
жизни, можно все-таки нащупать
(например, совокупный тираж
столичных либеральных изданий в
конце 80-х, или оценки аудитории
западных радиостанций в СССР,
или примерное количество семей,
владеющих автомобилями).
![]() Именно этот слой
добился в послесталинское время
культурно-психологической
гегемонии в обществе, создал мощную
(западни-ческую в целом) культурную
традицию. Именно он устами
художественной элиты, "текстами
культуры" задавал престижную
матрицу ценностей, артикулировал
господствовавшие нормы
социального поведения. Именно он
стал (при мощном
культурно-поколенческом сдвиге
начала 80-х годов) главной
социальной базой перестройки, а
сформировавшийся на его основе
"политический класс" стал
главной силой, взорвавшей
возможность консервативной
эволюции режима.
Именно этот слой
добился в послесталинское время
культурно-психологической
гегемонии в обществе, создал мощную
(западни-ческую в целом) культурную
традицию. Именно он устами
художественной элиты, "текстами
культуры" задавал престижную
матрицу ценностей, артикулировал
господствовавшие нормы
социального поведения. Именно он
стал (при мощном
культурно-поколенческом сдвиге
начала 80-х годов) главной
социальной базой перестройки, а
сформировавшийся на его основе
"политический класс" стал
главной силой, взорвавшей
возможность консервативной
эволюции режима.
![]() Корни подобного
отношения ССК к эволюционному пути
лежат в отношении к самой системе,
породившей и вырастившей его. Для
лидирующей его группы - статусной
интеллигенции столичных и
крупнейших городов, части
директорского корпуса, рыночно
ориентированных управленцев
центральных ведомств -
консервативная эволюция делала
невозможным резкое, скачкообразное
("через ступеньки") повышение
социального и потребительского
статуса, до которого эта группа
дозревала четыре послесталинских
десятилетия. Такой путь реформ ей
мало бы что принес. Он означал
сохранение - с некоторыми
подвижками - прежней советской
социальной иерархии, системы
политического контроля и
регулирования экономического
поведения, при которой возможности
подъема по социальной лестнице для
"людей со стороны" были весьма
ограниченны.
Корни подобного
отношения ССК к эволюционному пути
лежат в отношении к самой системе,
породившей и вырастившей его. Для
лидирующей его группы - статусной
интеллигенции столичных и
крупнейших городов, части
директорского корпуса, рыночно
ориентированных управленцев
центральных ведомств -
консервативная эволюция делала
невозможным резкое, скачкообразное
("через ступеньки") повышение
социального и потребительского
статуса, до которого эта группа
дозревала четыре послесталинских
десятилетия. Такой путь реформ ей
мало бы что принес. Он означал
сохранение - с некоторыми
подвижками - прежней советской
социальной иерархии, системы
политического контроля и
регулирования экономического
поведения, при которой возможности
подъема по социальной лестнице для
"людей со стороны" были весьма
ограниченны.
![]() Политическая
система оказалась слишком узкой и
малоподвижной: она фактически
блокировала конверсию
накопленного этим классом мощного
энергетического, образовательного,
квалификационного, культурного
потенциала в доходы, потребление,
собственность, политическое
влияние и власть.
Политическая
система оказалась слишком узкой и
малоподвижной: она фактически
блокировала конверсию
накопленного этим классом мощного
энергетического, образовательного,
квалификационного, культурного
потенциала в доходы, потребление,
собственность, политическое
влияние и власть.
![]() На протяжении
всей своей истории режим, стремясь
удержать в контролируемых рамках
нараставшую с усложнением
социальной структуры
социокультурную дифференциацию,
пытался контролировать не только
доходы и потребление, но и сам образ
жизни формирующейся новой
социальной элиты.
На протяжении
всей своей истории режим, стремясь
удержать в контролируемых рамках
нараставшую с усложнением
социальной структуры
социокультурную дифференциацию,
пытался контролировать не только
доходы и потребление, но и сам образ
жизни формирующейся новой
социальной элиты.
![]() Однако
"процесс пошел" на базовом,
культурном уровне, где прямой
репрессивный контроль был
малоэффективен.
Однако
"процесс пошел" на базовом,
культурном уровне, где прямой
репрессивный контроль был
малоэффективен.
![]() С началом
массового распространения бытовой
электроники (побочный результат
стратегической "гонки за
Западом") потеря государством
монополии на информацию и
демонстрацию образцов культуры
стал лишь вопросом времени.
Коротковолновый радиоприемник,
бытовой магнитофон и пишущая
машинка стали
материально-технической основой
формирования
"внегосударственного",
антивластного мироощущения
среднего класса.
С началом
массового распространения бытовой
электроники (побочный результат
стратегической "гонки за
Западом") потеря государством
монополии на информацию и
демонстрацию образцов культуры
стал лишь вопросом времени.
Коротковолновый радиоприемник,
бытовой магнитофон и пишущая
машинка стали
материально-технической основой
формирования
"внегосударственного",
антивластного мироощущения
среднего класса.
![]() Александр Галич
гениально уловил и сформулировал
эту перемену
информационно-культурной ситуации
в стране уже на рубеже 70-х годов:
Александр Галич
гениально уловил и сформулировал
эту перемену
информационно-культурной ситуации
в стране уже на рубеже 70-х годов:
"Есть
магнитофон системы "Яуза" -
Вот и все. И этого достаточно..."
![]() (Для Восточной
Европы конца 80-х, стоявшей в этом
процессе "технической
эмансипации" общества на
несколько шагов впереди СССР, тот
же феномен был афористически
сформулирован чешским диссидентом:
"Коммунизм был побежден
компьютером, премию следует
выплатить фирме "Эпсон".)
(Для Восточной
Европы конца 80-х, стоявшей в этом
процессе "технической
эмансипации" общества на
несколько шагов впереди СССР, тот
же феномен был афористически
сформулирован чешским диссидентом:
"Коммунизм был побежден
компьютером, премию следует
выплатить фирме "Эпсон".)
![]() В 1970 - 1980-е
культурно-поколенческие изменения
в среднем классе оказались
окончательно рассинхронизированы
с динамикой менталитета
номенклатуры. Последний не смог
идеологически интегрировать ни
новые массовые потребительские
ориентиры, ни феномен молодежных и
иных внеофициальных субкультур.
В 1970 - 1980-е
культурно-поколенческие изменения
в среднем классе оказались
окончательно рассинхронизированы
с динамикой менталитета
номенклатуры. Последний не смог
идеологически интегрировать ни
новые массовые потребительские
ориентиры, ни феномен молодежных и
иных внеофициальных субкультур.
![]() Рок, диско,
феномен "самодеятельной
песни", йога и восточные
единоборства и пр.- все эти маркеры
поколенческой культуры
развивались вне официальной
системы координат - а значит, против
нее.
Рок, диско,
феномен "самодеятельной
песни", йога и восточные
единоборства и пр.- все эти маркеры
поколенческой культуры
развивались вне официальной
системы координат - а значит, против
нее.
![]() Второе-третье
поколение горожан, обжившее среду
обитания и твердо стоявшее на
ногах, хорошо информированное об
уровне жизни своих "братьев по
классу" на Западе, социально
уверенное в себе и потому верившее,
что снятие политических
ограничений и экономическая
свобода дают новые возможности
роста, - вот "политическая армия
революции", выступившая против
консервативной реформы изнутри.
("Изнутри", поскольку эта
страта была одновременно и
единственной потенциальной опорой
любого реформистского курса.)
Второе-третье
поколение горожан, обжившее среду
обитания и твердо стоявшее на
ногах, хорошо информированное об
уровне жизни своих "братьев по
классу" на Западе, социально
уверенное в себе и потому верившее,
что снятие политических
ограничений и экономическая
свобода дают новые возможности
роста, - вот "политическая армия
революции", выступившая против
консервативной реформы изнутри.
("Изнутри", поскольку эта
страта была одновременно и
единственной потенциальной опорой
любого реформистского курса.)
![]() 3. В известном
смысле неизбежность роста влияния
и в конечном итоге идеологической
гегемонии ССК задавалась самим
ходом развития страны. Тотальное
противостояние Западу имело
характер хронически безнадежной "гонки
за лидером". Это вынуждало
советское руководство ставить
сходные с западными стратегические
задачи, повторять не только
технические, но и социальные
решения. Последние, в свою очередь,
неизбежно приводили к
соответствующим - по большей части
неуправляемым - культурным
последствиям. Например, именно
противостояние с Западом привело к
созданию в СССР (во многом за счет
ограбления большинства населения)
колоссальной сферы науки и
научного обслуживания. Эту сферу по
самой ее природе невозможно было
изолировать от внешнего мира, и она
стала одним из первых независимых
каналов информирования общества.
3. В известном
смысле неизбежность роста влияния
и в конечном итоге идеологической
гегемонии ССК задавалась самим
ходом развития страны. Тотальное
противостояние Западу имело
характер хронически безнадежной "гонки
за лидером". Это вынуждало
советское руководство ставить
сходные с западными стратегические
задачи, повторять не только
технические, но и социальные
решения. Последние, в свою очередь,
неизбежно приводили к
соответствующим - по большей части
неуправляемым - культурным
последствиям. Например, именно
противостояние с Западом привело к
созданию в СССР (во многом за счет
ограбления большинства населения)
колоссальной сферы науки и
научного обслуживания. Эту сферу по
самой ее природе невозможно было
изолировать от внешнего мира, и она
стала одним из первых независимых
каналов информирования общества.
![]() Несколько
миллионов человек,
сконцентрированные в нескольких
городах и научных центрах, были
источником социальной рефлексии и
не могли быть управляемы
традиционными советскими
средствами. Ощущая себя "солью
земли", т.е. несомненной
интеллектуальной элитой, они не
могли не воспринимать обостренно
свою социально-политическую
ничтожность.
Несколько
миллионов человек,
сконцентрированные в нескольких
городах и научных центрах, были
источником социальной рефлексии и
не могли быть управляемы
традиционными советскими
средствами. Ощущая себя "солью
земли", т.е. несомненной
интеллектуальной элитой, они не
могли не воспринимать обостренно
свою социально-политическую
ничтожность.
![]() К тому же
существовало и распространенное
представление о высокой рыночной
конкурентоспособности советских
"научников", вроде бы
подтверждавшееся первыми
результатами массовой
("еврейской") эмиграции в 70-80-е
годы. В результате именно эта среда
стала выразителем политического
недовольства, средой производства
и циркуляции самиздата и пр.
Впоследствии именно эта среда дала
"профессорскую волну" в
политике и выкатила на сцену целый
ряд риторов "Демроссии".
К тому же
существовало и распространенное
представление о высокой рыночной
конкурентоспособности советских
"научников", вроде бы
подтверждавшееся первыми
результатами массовой
("еврейской") эмиграции в 70-80-е
годы. В результате именно эта среда
стала выразителем политического
недовольства, средой производства
и циркуляции самиздата и пр.
Впоследствии именно эта среда дала
"профессорскую волну" в
политике и выкатила на сцену целый
ряд риторов "Демроссии".
![]() Сходные
результаты дали и идеологически
мотивированные "холодной
войной" решения по имитации
западного типа потребления. Так,
начало продажи легковых
автомобилей частным владельцам
фактически запустило процесс новой
(не традиционно советской)
социальной дифференциации - через
доходы, а не через распределение по
месту в социальной иерархии.
Последнее не могло не привести к
такому открытому имущественному
закреплению социального
неравенства, которое уже можно было
пощупать и измерить.
Сходные
результаты дали и идеологически
мотивированные "холодной
войной" решения по имитации
западного типа потребления. Так,
начало продажи легковых
автомобилей частным владельцам
фактически запустило процесс новой
(не традиционно советской)
социальной дифференциации - через
доходы, а не через распределение по
месту в социальной иерархии.
Последнее не могло не привести к
такому открытому имущественному
закреплению социального
неравенства, которое уже можно было
пощупать и измерить.
![]() Автомобиль в
этом смысле крайне показателен. Во
многом он определяет образ жизни и
экономическое поведение владельца,
требует не только начальных
вложений ("накопил и машину
купил"), но и постоянных расходов
на эксплуатацию, а значит -
соответствующих доходов.
Автомобиль в
этом смысле крайне показателен. Во
многом он определяет образ жизни и
экономическое поведение владельца,
требует не только начальных
вложений ("накопил и машину
купил"), но и постоянных расходов
на эксплуатацию, а значит -
соответствующих доходов.
![]() Если из примерно
15 млн. частных автомобилей,
находившихся в номинальной
эксплуатации к моменту распада
СССР, исключить как
"нетоварные" 5 млн. устаревших
и неисправных, то оставшиеся
примерно 10 млн. указывают на число
семей, обладавших автомобилем.
Умножая это количество на
три-четыре (условное число членов
семьи в 80-е годы), получаем цифру в 30
- 40 млн. человек, которую очень грубо
можно считать ориентиром (одним из
многих!) в определении социальной
массы "среднего класса".
Если из примерно
15 млн. частных автомобилей,
находившихся в номинальной
эксплуатации к моменту распада
СССР, исключить как
"нетоварные" 5 млн. устаревших
и неисправных, то оставшиеся
примерно 10 млн. указывают на число
семей, обладавших автомобилем.
Умножая это количество на
три-четыре (условное число членов
семьи в 80-е годы), получаем цифру в 30
- 40 млн. человек, которую очень грубо
можно считать ориентиром (одним из
многих!) в определении социальной
массы "среднего класса".
![]() Конечно,
значительная часть ССК не являлась
автовладельцами, а многие
автовладельцы не самоопределялись
как "средний класс". Отбросим,
например, четверть "случайных"
владельцев и представим, что
реальными центрами автомобилизма
были крупнейшие и столичные города.
Но ведь именно здесь находились
центры политической активности и
принятия решений - и именно здесь
давление "класса
автовладельцев" было наиболее
ощутимым...
Конечно,
значительная часть ССК не являлась
автовладельцами, а многие
автовладельцы не самоопределялись
как "средний класс". Отбросим,
например, четверть "случайных"
владельцев и представим, что
реальными центрами автомобилизма
были крупнейшие и столичные города.
Но ведь именно здесь находились
центры политической активности и
принятия решений - и именно здесь
давление "класса
автовладельцев" было наиболее
ощутимым...
![]() 4. С другой
стороны, еще на рубеже 70-80-х годов
государственная машина доросла до
своих физических пределов.
Управленческо-распределительная
кормушка просто не могла расти
дальше теми же темпами, что оказало
решающее воздействие на механизмы
социальной мобильности.
4. С другой
стороны, еще на рубеже 70-80-х годов
государственная машина доросла до
своих физических пределов.
Управленческо-распределительная
кормушка просто не могла расти
дальше теми же темпами, что оказало
решающее воздействие на механизмы
социальной мобильности.
![]() Новые поколения
"номенклатуры" не могли более
"механически" наследовать
социальный статус родителей,
ускорился начавшийся еще в 50-е годы
процесс ухода "боярских детей"
в боковые (профессиональные, не
связанные напрямую с властью) ветви
истеблишмента - науку, искусство,
производство, т.е. традиционные
ниши обитания "среднего
класса". (Полезно вспомнить
биографии Сергея Хрущева, Анатолия
Громыко, Анатолия Яковлева, Серго
Микояна...)
Новые поколения
"номенклатуры" не могли более
"механически" наследовать
социальный статус родителей,
ускорился начавшийся еще в 50-е годы
процесс ухода "боярских детей"
в боковые (профессиональные, не
связанные напрямую с властью) ветви
истеблишмента - науку, искусство,
производство, т.е. традиционные
ниши обитания "среднего
класса". (Полезно вспомнить
биографии Сергея Хрущева, Анатолия
Громыко, Анатолия Яковлева, Серго
Микояна...)
![]() В свою очередь, и
новые поколения массовидного ССК
не могли больше рассчитывать на
быструю вертикальную мобильность,
на высокое место в истеблишменте.
Прекращение роста
"государственного тела",
смертельно медленная ротация
руководящих кадров делали
номенклатуру, с одной стороны, в
значительной степени поколенчески закрытым
классом, а с другой - усиливали
идеологическое влияние на нее со
стороны ССК. Последнее
осуществлялось, в частности, через
молодое поколение cамой
номенклатуры, фактически полностью
принявшее гегемонию социальных
норм среднего класса. Уже с 1970-х, с
началом стремительного упадка
идеологии, "номенклатура"
стала обставлять карьерное
продвижение дипломами и учеными
степенями, легитимизируя свое
положение через апелляцию к
харизме науки (к.ю.н. Михаил
Горбачев, д.ю.н. Анатолий Лукьянов,
акад. Александр Яковлев и многие
другие - выходцы именно из этой
поколенческой волны).
В свою очередь, и
новые поколения массовидного ССК
не могли больше рассчитывать на
быструю вертикальную мобильность,
на высокое место в истеблишменте.
Прекращение роста
"государственного тела",
смертельно медленная ротация
руководящих кадров делали
номенклатуру, с одной стороны, в
значительной степени поколенчески закрытым
классом, а с другой - усиливали
идеологическое влияние на нее со
стороны ССК. Последнее
осуществлялось, в частности, через
молодое поколение cамой
номенклатуры, фактически полностью
принявшее гегемонию социальных
норм среднего класса. Уже с 1970-х, с
началом стремительного упадка
идеологии, "номенклатура"
стала обставлять карьерное
продвижение дипломами и учеными
степенями, легитимизируя свое
положение через апелляцию к
харизме науки (к.ю.н. Михаил
Горбачев, д.ю.н. Анатолий Лукьянов,
акад. Александр Яковлев и многие
другие - выходцы именно из этой
поколенческой волны).
![]() Вообще
социокультурная траектория
номенклатуры (от героического
разрушительства традиционных
культурных норм
предреволюционного социума - к их
освоению и "приватизации", от
нигилистического "кожана" - к
буржуазному галстуку) была
изумительно точно предугадана и
рассказана Ильей Эренбургом в
забытом сегодня романе времен
индустриализации "День
Второй".
Вообще
социокультурная траектория
номенклатуры (от героического
разрушительства традиционных
культурных норм
предреволюционного социума - к их
освоению и "приватизации", от
нигилистического "кожана" - к
буржуазному галстуку) была
изумительно точно предугадана и
рассказана Ильей Эренбургом в
забытом сегодня романе времен
индустриализации "День
Второй".
![]() 5. Дилемма,
стоявшая перед Горбачевым, сегодня
представляется очевидной - и
неразрешимой одновременно.
Реформистское крыло истеблишмента
не было достаточно сильным, чтобы
обойтись без мобилизации
социальной поддержки, а она могла
первоначально прийти только со
стороны советского среднего
класса. Последнее очевидно,
поскольку удовлетворить его
ожидания и надежды (в отличие от
любых других слоев населения) можно
было простым расширением сферы
свободы, ослаблением политического
контроля и наложением вето на
репрессии.
5. Дилемма,
стоявшая перед Горбачевым, сегодня
представляется очевидной - и
неразрешимой одновременно.
Реформистское крыло истеблишмента
не было достаточно сильным, чтобы
обойтись без мобилизации
социальной поддержки, а она могла
первоначально прийти только со
стороны советского среднего
класса. Последнее очевидно,
поскольку удовлетворить его
ожидания и надежды (в отличие от
любых других слоев населения) можно
было простым расширением сферы
свободы, ослаблением политического
контроля и наложением вето на
репрессии.
![]() Но это означало
бы подрыв органичной, притертой
десятилетиями иерархии элит, что со
временем не могло не привести к
коррозии всей политической
системы. Сделать же ставку на этот
слой и, следовательно, пойти на
революционный слом системы
Горбачев не мог и не хотел,
справедливо предчувствуя
колоссальные общественные
потрясения. Да и не чувствовал он за
этими людьми силы и перспективы!
Но это означало
бы подрыв органичной, притертой
десятилетиями иерархии элит, что со
временем не могло не привести к
коррозии всей политической
системы. Сделать же ставку на этот
слой и, следовательно, пойти на
революционный слом системы
Горбачев не мог и не хотел,
справедливо предчувствуя
колоссальные общественные
потрясения. Да и не чувствовал он за
этими людьми силы и перспективы!
![]() Переломным
моментом в этом стоянии на лезвии
мог стать лишь жестко авторитарный
вираж реформатора, советский
вариант Тяньаньмыня (например, в
марте 1991 г.). Он мог бы жестко
отрезать варианты слома
политической системы,
гарантировать преемственность
власти и однозначно определить
пространство, в котором допущена
свобода реализации социальных
ожиданий. На подобный вариант "до
конца" Горбачев также не пошел,
хотя авторитарный откат наметился
с формированием последнего
горбачевского кабинета (почти в
полном составе - будущего ГКЧП).
Бездарная попытка провести
советский вариант Тяньаньмыня
состоялась без и против
колеблющегося и
непоследовательного Горбачева и не
была поддержана наиболее
влиятельными группами
номенклатуры.
Переломным
моментом в этом стоянии на лезвии
мог стать лишь жестко авторитарный
вираж реформатора, советский
вариант Тяньаньмыня (например, в
марте 1991 г.). Он мог бы жестко
отрезать варианты слома
политической системы,
гарантировать преемственность
власти и однозначно определить
пространство, в котором допущена
свобода реализации социальных
ожиданий. На подобный вариант "до
конца" Горбачев также не пошел,
хотя авторитарный откат наметился
с формированием последнего
горбачевского кабинета (почти в
полном составе - будущего ГКЧП).
Бездарная попытка провести
советский вариант Тяньаньмыня
состоялась без и против
колеблющегося и
непоследовательного Горбачева и не
была поддержана наиболее
влиятельными группами
номенклатуры.
![]() С другой стороны,
реально управлявшие
госсобственностью руководители
предприятий и территорий,
значительная часть хозяйственной и
политической элиты стремились к
перераспределению власти, к
легитимации своего статуса хозяев
страны, к конверсии власти в статус,
а статуса - в деньги и
собственность.
С другой стороны,
реально управлявшие
госсобственностью руководители
предприятий и территорий,
значительная часть хозяйственной и
политической элиты стремились к
перераспределению власти, к
легитимации своего статуса хозяев
страны, к конверсии власти в статус,
а статуса - в деньги и
собственность.
![]() Консервативно-эволюционный
путь таких возможностей дать не мог
именно в силу своего главного
условия - сохранения жесткой
иерархии элит на политическом,
национально-государственном
уровне. Сохранение Союза означало
прежде всего сохранение имперской
централизованной иерархии
национальных элит, обуздание их
политических амбиций (что после
1987-1988 гг. было возможно лишь через
применение силы).
Консервативно-эволюционный
путь таких возможностей дать не мог
именно в силу своего главного
условия - сохранения жесткой
иерархии элит на политическом,
национально-государственном
уровне. Сохранение Союза означало
прежде всего сохранение имперской
централизованной иерархии
национальных элит, обуздание их
политических амбиций (что после
1987-1988 гг. было возможно лишь через
применение силы).
![]() К тому же для
традиционных советских элит в
республиках выбор "за" или
"против"
консервативно-реформистского пути
не был уже свободным, поскольку
снизу их подпирали
сформировавшиеся на обочинах
политической системы
националистические контрэлиты, под
зонтиком горбачевского "запрета
на репрессии" оформившие свои
политические движения в виде
всевозможных "народных
фронтов". Удержать власть в ряде
случаев (как потом оказалось,
ненадолго) было можно, лишь
перехватив у национал-радикалов
лозунги суверенизации. Что и было
сделано.
К тому же для
традиционных советских элит в
республиках выбор "за" или
"против"
консервативно-реформистского пути
не был уже свободным, поскольку
снизу их подпирали
сформировавшиеся на обочинах
политической системы
националистические контрэлиты, под
зонтиком горбачевского "запрета
на репрессии" оформившие свои
политические движения в виде
всевозможных "народных
фронтов". Удержать власть в ряде
случаев (как потом оказалось,
ненадолго) было можно, лишь
перехватив у национал-радикалов
лозунги суверенизации. Что и было
сделано.
![]() 6. Таким
образом, на критическом рубеже
защищать
консервативно-реформистский путь
(по крайней мере платить за него
требуемую реальную цену) не захотел
ни один из главных социальных
актеров российской сцены.
6. Таким
образом, на критическом рубеже
защищать
консервативно-реформистский путь
(по крайней мере платить за него
требуемую реальную цену) не захотел
ни один из главных социальных
актеров российской сцены.
![]() Потенции этого
пути были упущены реформистским
ядром истеблишмента, отвергнуты
ССК, не использованы в значимых
масштабах местными и
региональными властями,
национальными
элитами, хозяйственными
руководителями. Без слома
традиционно-советских социальных
иерархий, без крушения
политической системы обойтись не
удалось. Катастрофа политической
системы стала неизбежной.
Потенции этого
пути были упущены реформистским
ядром истеблишмента, отвергнуты
ССК, не использованы в значимых
масштабах местными и
региональными властями,
национальными
элитами, хозяйственными
руководителями. Без слома
традиционно-советских социальных
иерархий, без крушения
политической системы обойтись не
удалось. Катастрофа политической
системы стала неизбежной.
![]() Однако в
этакратическом обществе, каковым, в
сущности, являлось советское,
катастрофа политической системы не
могла не стать и катастрофой
общества, точнее, определенного
типа развития и цивилизации.
Однако в
этакратическом обществе, каковым, в
сущности, являлось советское,
катастрофа политической системы не
могла не стать и катастрофой
общества, точнее, определенного
типа развития и цивилизации.
![]() II. Почему — катастрофа?
II. Почему — катастрофа?
![]() 1. Неудача
консервативной реформы не была
случайной. Советская система
сложилась на приоритетах
стабильности и количественного
роста, а не качественной динамики. В
этом она проявила определенные
черты российской цивилизации,
которые развила, кажется, до
максимально возможного в ХХ в.
предела. Она не только воспитала
преимущественно консервативный
правящий класс, но и десятилетиями
негативной селекции подготовила
соответствующий человеческий
материал на всех уровнях
социальной пирамиды. Но самое
главное - она создала в высшей
степени плотную, вязкую и по-своему
органичную
систему социально-групповых
интересов на основе
территориально-административных и
корпоративно-отраслевых
комплексов. Эти группы интересов,
базирующиеся на госсобственности и
управляющем ею госаппарате, были (и
отчасти остаются) ориентированы
исключительно на самосохранение и
рост.
1. Неудача
консервативной реформы не была
случайной. Советская система
сложилась на приоритетах
стабильности и количественного
роста, а не качественной динамики. В
этом она проявила определенные
черты российской цивилизации,
которые развила, кажется, до
максимально возможного в ХХ в.
предела. Она не только воспитала
преимущественно консервативный
правящий класс, но и десятилетиями
негативной селекции подготовила
соответствующий человеческий
материал на всех уровнях
социальной пирамиды. Но самое
главное - она создала в высшей
степени плотную, вязкую и по-своему
органичную
систему социально-групповых
интересов на основе
территориально-административных и
корпоративно-отраслевых
комплексов. Эти группы интересов,
базирующиеся на госсобственности и
управляющем ею госаппарате, были (и
отчасти остаются) ориентированы
исключительно на самосохранение и
рост.
![]() При новом режиме
уровень коррупции и лоббизма в
госаппарате намного вырос.
Возможности давления на
правительство со стороны
многочисленных
территориально-отраслевых групп
(отнюдь не только ВПК, АПК, ТЭК)
таковы, что надеяться на
планомерную переориентацию,
конверсию и модернизацию просто
нереально. Достаточно вспомнить
гайдаровскую практику
поочередного прогиба перед
требованиями налоговых льгот и
различных дотаций со стороны
различных "групп давления".
При новом режиме
уровень коррупции и лоббизма в
госаппарате намного вырос.
Возможности давления на
правительство со стороны
многочисленных
территориально-отраслевых групп
(отнюдь не только ВПК, АПК, ТЭК)
таковы, что надеяться на
планомерную переориентацию,
конверсию и модернизацию просто
нереально. Достаточно вспомнить
гайдаровскую практику
поочередного прогиба перед
требованиями налоговых льгот и
различных дотаций со стороны
различных "групп давления".
![]() Есть данные, что
директора военных заводов
отказывались от конверсионных
заказов, предпочитая шантажировать
правительство закрытием
предприятий и выбросом людей на
улицу. Другие - через схожие
механизмы - добиваются совершенно
разорительных для страны заказов,
обосновывая это интересами
сохранения национального
промышленного потенциала.
Есть данные, что
директора военных заводов
отказывались от конверсионных
заказов, предпочитая шантажировать
правительство закрытием
предприятий и выбросом людей на
улицу. Другие - через схожие
механизмы - добиваются совершенно
разорительных для страны заказов,
обосновывая это интересами
сохранения национального
промышленного потенциала.
![]() Сила и, главное, -
укорененность этих групп интересов
в самой социальной почве, их
нерасторжимость с интересами
самого госаппарата не оставляет,
кажется, никаких серьезных шансов
на эффективную и конструктивную
роль государства в процессе
структурной модернизации.
Сила и, главное, -
укорененность этих групп интересов
в самой социальной почве, их
нерасторжимость с интересами
самого госаппарата не оставляет,
кажется, никаких серьезных шансов
на эффективную и конструктивную
роль государства в процессе
структурной модернизации.
![]() 2. Дело,
конечно, не в некомпетентности тех,
кто стоит на вершине
государственной пирамиды, а в
природе самого этого государства.
Возникшее на принуждении, оно
каждый свой рывок вперед - от Петра
до Сталина - осуществляло
административным насилием, чаще
всего вопреки интересам основной
массы подданных, не спрашивая их, не
заботясь о стимулах и правилах
игры. Более того, каждый раз, когда
это государство осуществляло
рывок, оно подрубало прораставшие
снизу, из общественной почвы
возможности органичного
капиллярного развития.
2. Дело,
конечно, не в некомпетентности тех,
кто стоит на вершине
государственной пирамиды, а в
природе самого этого государства.
Возникшее на принуждении, оно
каждый свой рывок вперед - от Петра
до Сталина - осуществляло
административным насилием, чаще
всего вопреки интересам основной
массы подданных, не спрашивая их, не
заботясь о стимулах и правилах
игры. Более того, каждый раз, когда
это государство осуществляло
рывок, оно подрубало прораставшие
снизу, из общественной почвы
возможности органичного
капиллярного развития.
![]() Петровская
мануфактурно-крепостная
индустриализация означала, к
примеру, пресечение низового
спонтанного развития товарного
производства, что привело через сто
лет к невосполнимому до сих пор
отставанию в технической сфере и,
самое трагичное, - к формированию
уникально тупикового типа
крепостного промышленного
работника. Каждый рывок в
индустриализации на
импортированной технической и
отчасти организационной базе и на
государственно-принудительной
основе, сокращая дистанцию в гонке
за лидером "по абсолюту",
подготавливал на следующем витке
еще большее отставание. Если,
например, в 80-е годы XVIII в. Россия
занимала ведущее место в Европе по
производству чугуна и стали (т.е. по
основным позициям тогдашнего
промышленного производства), уже
через сто лет она значительно
отставала не только по этим
основным позициям, но и в
металлургии вообще, уступив даже
Германии, начавшей
индустриализацию позже и сто лет
назад производившей металла
несопоставимо меньше, чем Россия.
Новый промышленный рывок привел к
стремительному сокращению разрыва,
достигшему, видимо, минимума к
началу 70-х годов XX в. Однако уже к
концу 80-х годов разрыв снова стал
мощно нарастать, причем опять не
только в новых отраслях (здесь
можно было бы "списать на НТР",
прыжок в постиндустриальную эру),
но и в тех, где позиции России
считались незыблемыми.
Петровская
мануфактурно-крепостная
индустриализация означала, к
примеру, пресечение низового
спонтанного развития товарного
производства, что привело через сто
лет к невосполнимому до сих пор
отставанию в технической сфере и,
самое трагичное, - к формированию
уникально тупикового типа
крепостного промышленного
работника. Каждый рывок в
индустриализации на
импортированной технической и
отчасти организационной базе и на
государственно-принудительной
основе, сокращая дистанцию в гонке
за лидером "по абсолюту",
подготавливал на следующем витке
еще большее отставание. Если,
например, в 80-е годы XVIII в. Россия
занимала ведущее место в Европе по
производству чугуна и стали (т.е. по
основным позициям тогдашнего
промышленного производства), уже
через сто лет она значительно
отставала не только по этим
основным позициям, но и в
металлургии вообще, уступив даже
Германии, начавшей
индустриализацию позже и сто лет
назад производившей металла
несопоставимо меньше, чем Россия.
Новый промышленный рывок привел к
стремительному сокращению разрыва,
достигшему, видимо, минимума к
началу 70-х годов XX в. Однако уже к
концу 80-х годов разрыв снова стал
мощно нарастать, причем опять не
только в новых отраслях (здесь
можно было бы "списать на НТР",
прыжок в постиндустриальную эру),
но и в тех, где позиции России
считались незыблемыми.
![]() Сопоставление с
классическим Западом прозрачно (и в
каком-то смысле тривиально). Больше
раздумий вызывает траектория стран
второго, третьего и последующих
эшелонов модернизации.
Экономическое сопоставление
России с Испанией, Португалией,
Турцией, Мексикой, Бразилией в 80-х
годах прошлого века казалось бы
просто неуместным. Сегодня по ряду
позиций их положение с Россией
сблизилось настолько, что в
международной статистике они
попадают в одну группу, а по другим
позициям (например, структура
внешней торговли) Россия, по
сравнению с ними, выглядит просто
отсталой страной.
Сопоставление с
классическим Западом прозрачно (и в
каком-то смысле тривиально). Больше
раздумий вызывает траектория стран
второго, третьего и последующих
эшелонов модернизации.
Экономическое сопоставление
России с Испанией, Португалией,
Турцией, Мексикой, Бразилией в 80-х
годах прошлого века казалось бы
просто неуместным. Сегодня по ряду
позиций их положение с Россией
сблизилось настолько, что в
международной статистике они
попадают в одну группу, а по другим
позициям (например, структура
внешней торговли) Россия, по
сравнению с ними, выглядит просто
отсталой страной.
![]() Об экономическом
сопоставлении Японии с Россией
говорить было бессмысленно не
только в конце XVIII, но и в конце XIX в.
В конце же ХХ в. говорить стало
также бессмысленно, но - "в
обратном смысле". Рывок,
сделанный Японией за сто лет после
революции Мэйдзи, выглядел бы
совершенно беспрецедентным, если
бы сопоставимые (в пропорции)
результаты не были достигнуты
также и восточноазиатскими
"тиграми" буквально на пустом
месте.
Об экономическом
сопоставлении Японии с Россией
говорить было бессмысленно не
только в конце XVIII, но и в конце XIX в.
В конце же ХХ в. говорить стало
также бессмысленно, но - "в
обратном смысле". Рывок,
сделанный Японией за сто лет после
революции Мэйдзи, выглядел бы
совершенно беспрецедентным, если
бы сопоставимые (в пропорции)
результаты не были достигнуты
также и восточноазиатскими
"тиграми" буквально на пустом
месте.
![]() Разговоры
(достаточно, конечно, обоснованные)
о сильной этатистской основе
любого успешного догоняющего
развития не могут снять ключевой,
по-моему, проблемы личной свободы и
социальной эмансипации как
единственной прочной основы любой
модернизации и - шире - развития.
Даже в Японии, стране традиционно
жесточайшего социального контроля
над личностью, при самом жестком
этатизме времен первого (после
революции Мэйдзи) и второго
(послевоенного) японского великого
рывка уровень личной свободы был
всегда на порядок выше, чем на
предыдущем витке. Каждый шаг
экономического развития
сопровождался соответствующим
(попеременно - опережающим и
последующим) шагом в эмансипации.
Разговоры
(достаточно, конечно, обоснованные)
о сильной этатистской основе
любого успешного догоняющего
развития не могут снять ключевой,
по-моему, проблемы личной свободы и
социальной эмансипации как
единственной прочной основы любой
модернизации и - шире - развития.
Даже в Японии, стране традиционно
жесточайшего социального контроля
над личностью, при самом жестком
этатизме времен первого (после
революции Мэйдзи) и второго
(послевоенного) японского великого
рывка уровень личной свободы был
всегда на порядок выше, чем на
предыдущем витке. Каждый шаг
экономического развития
сопровождался соответствующим
(попеременно - опережающим и
последующим) шагом в эмансипации.
![]() В России же - за
исключением рывка рубежа веков -
ситуация была обратной. Социальная
эмансипация, несомненно, шла, но она
была побочным, нежелательным и
подавляемым продуктом модели
развития, ее антителом. Насилие
было не методом, а культурным кодом,
сутью этого государства. И как
только репрессивная его основа
одрябла, государство перестало
быть субъектом, потеряло
мистический - для русской истории -
смысл и свелось к сумме властей,
которые реально не имеют ни идеи, ни
миссии, ни мандата общества. А есть
только многоликая этакратия,
госаппарат с его собственными -
разнонаправленными - социальными
интересами.
В России же - за
исключением рывка рубежа веков -
ситуация была обратной. Социальная
эмансипация, несомненно, шла, но она
была побочным, нежелательным и
подавляемым продуктом модели
развития, ее антителом. Насилие
было не методом, а культурным кодом,
сутью этого государства. И как
только репрессивная его основа
одрябла, государство перестало
быть субъектом, потеряло
мистический - для русской истории -
смысл и свелось к сумме властей,
которые реально не имеют ни идеи, ни
миссии, ни мандата общества. А есть
только многоликая этакратия,
госаппарат с его собственными -
разнонаправленными - социальными
интересами.
![]() 3.
Посткоммунистическая ситуация в
России может быть охарактеризована
как бессубъектная. Любая
форсированная модернизация (и
структурная в том числе) требует
мощной государственной воли,
управляемого, способного к сложным
командным маневрам госаппарата,
т.е. некоторого субъекта реформ.
Подобный субъект не только
отсутствует, но, по всей видимости,
и не может быть порожден этим
обществом в обозримые сроки.
3.
Посткоммунистическая ситуация в
России может быть охарактеризована
как бессубъектная. Любая
форсированная модернизация (и
структурная в том числе) требует
мощной государственной воли,
управляемого, способного к сложным
командным маневрам госаппарата,
т.е. некоторого субъекта реформ.
Подобный субъект не только
отсутствует, но, по всей видимости,
и не может быть порожден этим
обществом в обозримые сроки.
![]() Поэтому, когда
сегодня говорят о
госрегулировании, протекционизме,
эффективной таможенной и налоговой
политике, недопущении закрытия
предприятий и безработицы, о
сохранении промышленных структур,
стоит вспомнить о том, что, говоря
"государство", мы в реальности
будем иметь дело не с Великой
государственной идеей, а с исторически
конкретным госаппаратом,
воспитанным в совершенно
определенной управленческой
культуре, изменить которую простая
смена политических режимов (любых!)
практически не в состоянии.
Поэтому, когда
сегодня говорят о
госрегулировании, протекционизме,
эффективной таможенной и налоговой
политике, недопущении закрытия
предприятий и безработицы, о
сохранении промышленных структур,
стоит вспомнить о том, что, говоря
"государство", мы в реальности
будем иметь дело не с Великой
государственной идеей, а с исторически
конкретным госаппаратом,
воспитанным в совершенно
определенной управленческой
культуре, изменить которую простая
смена политических режимов (любых!)
практически не в состоянии.
![]() Ядро
госаппарата, управленцы
госсобственности, являются
несомненными лидерами
приватизации. Но даже и в новом
своем качестве легализованных
собственников они совершенно не
заинтересованы в структурной
модернизации, поскольку связаны
во многом с избыточными,
иждивенческими и тупиковыми
секторами хозяйства. И есть лишь
одна сила, которая может преодолеть
это вязкое непреодолимое
сопротивление. Эта сила -
КАТАСТРОФА.
Ядро
госаппарата, управленцы
госсобственности, являются
несомненными лидерами
приватизации. Но даже и в новом
своем качестве легализованных
собственников они совершенно не
заинтересованы в структурной
модернизации, поскольку связаны
во многом с избыточными,
иждивенческими и тупиковыми
секторами хозяйства. И есть лишь
одна сила, которая может преодолеть
это вязкое непреодолимое
сопротивление. Эта сила -
КАТАСТРОФА.
![]() Лишь она может
выжечь неэффективные и
нереформируемые в принципе (или без
колоссальных потерь) отрасли,
структуры, институты. Да, страшной
ценой, и поэтому ни радоваться ей,
ни желать ее нельзя. Но цена попыток
избежать катастрофы не будет ниже,
результатом же может стать лишь
социальное гниение, относительно
плавная многодесятилетняя
деградация.
Лишь она может
выжечь неэффективные и
нереформируемые в принципе (или без
колоссальных потерь) отрасли,
структуры, институты. Да, страшной
ценой, и поэтому ни радоваться ей,
ни желать ее нельзя. Но цена попыток
избежать катастрофы не будет ниже,
результатом же может стать лишь
социальное гниение, относительно
плавная многодесятилетняя
деградация.
![]() Если
стремительная (в масштабах
человеческой жизни), а значит -
неминуемо катастрофическая смена
социальной парадигмы дает шанс
использовать в критической фазе
развития наработанные советской
цивилизацией запас прочности и
человеческий материал (с его
очевидными преимуществами:
образованием, здоровьем,
минимальной социальной
дифференциацией), то любые варианты
"прусского пути" эволюции (т.е.
плавной деградации системы)
растратят эти преимущества. К
моменту следующей развилки страна
подойдет в совершенно
третьемиризованном состоянии,
лишенная главного (может быть,
единственного) позитивного
наследия советской цивилизации - ее
человеческого материала.
Если
стремительная (в масштабах
человеческой жизни), а значит -
неминуемо катастрофическая смена
социальной парадигмы дает шанс
использовать в критической фазе
развития наработанные советской
цивилизацией запас прочности и
человеческий материал (с его
очевидными преимуществами:
образованием, здоровьем,
минимальной социальной
дифференциацией), то любые варианты
"прусского пути" эволюции (т.е.
плавной деградации системы)
растратят эти преимущества. К
моменту следующей развилки страна
подойдет в совершенно
третьемиризованном состоянии,
лишенная главного (может быть,
единственного) позитивного
наследия советской цивилизации - ее
человеческого материала.
![]() В логике
подобного взгляда Катастрофа есть
цена обновления русской истории.
В логике
подобного взгляда Катастрофа есть
цена обновления русской истории.
![]() III. Как это бывает
III. Как это бывает
![]() 1. Когда в
России говорят о
социально-экономической
катастрофе, относиться к этому надо
осторожно. Во-первых, в
определенном смысле российская
история, российский прогресс и
двигались как бы через катастрофы.
Катастрофой региональных социумов
было собирание российских земель
под московскую руку, а затем
централизация государства (стоит
ли говорить, что последняя означала
для Твери, Новгорода, Рязани?!..).
Катастрофическими для
традиционных социальных структур
были опричнина, петровские реформы,
сталинские индустриализация и
коллективизация деревни.
1. Когда в
России говорят о
социально-экономической
катастрофе, относиться к этому надо
осторожно. Во-первых, в
определенном смысле российская
история, российский прогресс и
двигались как бы через катастрофы.
Катастрофой региональных социумов
было собирание российских земель
под московскую руку, а затем
централизация государства (стоит
ли говорить, что последняя означала
для Твери, Новгорода, Рязани?!..).
Катастрофическими для
традиционных социальных структур
были опричнина, петровские реформы,
сталинские индустриализация и
коллективизация деревни.
![]() Если сравнивать
взрывной потенциал и человеческую
цену нынешнего слома
социально-экономической системы
(по исторической вертикали) с
крахом времен революции и
гражданской войны или со
сталинской
индустриализацией-коллективизацией,
то вроде бы и произносить слово
"катастрофа" неудобно. Также
как-то неудобно сравнивать (по
географической горизонтали)
происходящее в бывшем СССР с
происходящим ныне же в бывшей
Югославии, Сомали или Руанде.
Если сравнивать
взрывной потенциал и человеческую
цену нынешнего слома
социально-экономической системы
(по исторической вертикали) с
крахом времен революции и
гражданской войны или со
сталинской
индустриализацией-коллективизацией,
то вроде бы и произносить слово
"катастрофа" неудобно. Также
как-то неудобно сравнивать (по
географической горизонтали)
происходящее в бывшем СССР с
происходящим ныне же в бывшей
Югославии, Сомали или Руанде.
![]() С другой стороны,
каждое поколение живет в своей
системе социальных координат.
Советская история и особенно ее
четыре послесталинских
десятилетия выработали такую
социальную структуру, такую
систему жизненных стандартов и
социальных ожиданий, по отношению к
которой беспощадно обрушившиеся
перемены действительно могут
восприниматься значительной
частью взрослого населения как
катастрофа.
С другой стороны,
каждое поколение живет в своей
системе социальных координат.
Советская история и особенно ее
четыре послесталинских
десятилетия выработали такую
социальную структуру, такую
систему жизненных стандартов и
социальных ожиданий, по отношению к
которой беспощадно обрушившиеся
перемены действительно могут
восприниматься значительной
частью взрослого населения как
катастрофа.
![]() Но вдумаемся, что
именно, кем и почему воспринимается
как катастрофа?
Но вдумаемся, что
именно, кем и почему воспринимается
как катастрофа?
![]() Оставим в
стороне идео-политический фон,
выступающий несомненно как
активная составляющая
самочувствия общества.
Оставим в
стороне идео-политический фон,
выступающий несомненно как
активная составляющая
самочувствия общества.
![]() На рациональном
уровне "объективка"
общеизвестна. Падение производства
наполовину в сравнении с уровнем 1989
г. Особо болезненное падение добычи
энергоносителей и в результате
падение их экспорта. Разорение и
остановка целых колоссальных
подотраслей. Прогнозируемая на
конец 1990-х годов по-настоящему
массовая безработица. Кризис
неплатежей. Рост внешнего долга,
контролируемый лишь кредиторами.
Падение доли ВВП, идущей на
социальные нужды, и в связи с этим
деградация социальной сферы.
Стремительное ухудшение здоровья
народа по всем показателям
медицинской статистики. Рост
смертности, падение рождаемости и
продолжительности жизни, минусовый
прирост населения. Тотальная
коррупция, беспрецедентная волна
преступности. Этот общероссийский
перечень можно было бы продолжать
бесконечно на региональном и
местном уровнях.
На рациональном
уровне "объективка"
общеизвестна. Падение производства
наполовину в сравнении с уровнем 1989
г. Особо болезненное падение добычи
энергоносителей и в результате
падение их экспорта. Разорение и
остановка целых колоссальных
подотраслей. Прогнозируемая на
конец 1990-х годов по-настоящему
массовая безработица. Кризис
неплатежей. Рост внешнего долга,
контролируемый лишь кредиторами.
Падение доли ВВП, идущей на
социальные нужды, и в связи с этим
деградация социальной сферы.
Стремительное ухудшение здоровья
народа по всем показателям
медицинской статистики. Рост
смертности, падение рождаемости и
продолжительности жизни, минусовый
прирост населения. Тотальная
коррупция, беспрецедентная волна
преступности. Этот общероссийский
перечень можно было бы продолжать
бесконечно на региональном и
местном уровнях.
![]() Но все это - даже
при оптимистических сценариях -
лишь прелюдия. По разным оценкам, 50 -
70% нашей промышленности просто не в
состоянии адаптироваться к
открытой рыночной экономике.
Большинство подотраслей
машиностроения, значительная часть
химии и легкой промышленности
становятся излишни. Их продукция
никому ни в мире, ни в стране не
нужна. Их можно было содержать лишь
в условиях жесткого
протекционизма, экономической
изоляции и военного противостояния
с Западом - за счет экспорта сырья и
равномерного объедания немногих
эффективных секторов экономики,
жесткого регулирования доходов и
потребления населения.
Но все это - даже
при оптимистических сценариях -
лишь прелюдия. По разным оценкам, 50 -
70% нашей промышленности просто не в
состоянии адаптироваться к
открытой рыночной экономике.
Большинство подотраслей
машиностроения, значительная часть
химии и легкой промышленности
становятся излишни. Их продукция
никому ни в мире, ни в стране не
нужна. Их можно было содержать лишь
в условиях жесткого
протекционизма, экономической
изоляции и военного противостояния
с Западом - за счет экспорта сырья и
равномерного объедания немногих
эффективных секторов экономики,
жесткого регулирования доходов и
потребления населения.
![]() Все эти условия
фактически перестали действовать,
восстановить их можно только на
короткое время, только силой и
только через контрреформу.
Сколь-либо серьезный социальный
персонификатор такой альтернативы
на российской сцене отсутствует.
Пока...
Все эти условия
фактически перестали действовать,
восстановить их можно только на
короткое время, только силой и
только через контрреформу.
Сколь-либо серьезный социальный
персонификатор такой альтернативы
на российской сцене отсутствует.
Пока...
![]() Но даже все
перечисленное тем не менее не
воспринимается большинством
населения как катастрофа - до тех
пор, пока не рушатся структуры
повседневности. В этом смысле для
большинства происходящая ломка все
еще катастрофой не стала. С другой
стороны, такие вещи, как
многомесячная невыплата зарплаты,
реальная длительная безработица,
недоступность регулярного
медобслуживания и школьного
образования, - уже реальный
осязаемый шаг к катастрофе
структур повседневности.
Но даже все
перечисленное тем не менее не
воспринимается большинством
населения как катастрофа - до тех
пор, пока не рушатся структуры
повседневности. В этом смысле для
большинства происходящая ломка все
еще катастрофой не стала. С другой
стороны, такие вещи, как
многомесячная невыплата зарплаты,
реальная длительная безработица,
недоступность регулярного
медобслуживания и школьного
образования, - уже реальный
осязаемый шаг к катастрофе
структур повседневности.
![]() Если
действительно пытаться решать
проблемы модернизации, а не
предоставлять эти мучительные
решения будущим поколениям,
которым за то же самое придется
платить уже совсем иную цену, то
путей "в обход" подобной
катастрофы уже не видно. Например,
если не пойти сегодня на
решительную модернизацию угольной
отрасли (что, по версии Мирового
банка, равнозначно сокращению
более полумиллиона рабочих мест и
неминуемо приведет в российских
условиях к краху структур
повседневности для более чем
миллиона человек), это будет
означать лишь отрубание кошачьего
хвоста по частям: возрастающая
нагрузка на бюджет, мучительная
маргинализация некогда одной из
самых привилегированных и
политически весомых групп рабочих,
деградация угледобывающих
регионов. Оттягивание решения -
катастрофа в рассрочку, с
минимальными надеждами на
реабилитацию. Принятие решения -
при существующем госаппарате
(системе
переквалификации, переселения,
материальной поддержки
безработных) - означает неминуемый
болевой шок, но дает некоторые
шансы в среднесрочном будущем.
Если
действительно пытаться решать
проблемы модернизации, а не
предоставлять эти мучительные
решения будущим поколениям,
которым за то же самое придется
платить уже совсем иную цену, то
путей "в обход" подобной
катастрофы уже не видно. Например,
если не пойти сегодня на
решительную модернизацию угольной
отрасли (что, по версии Мирового
банка, равнозначно сокращению
более полумиллиона рабочих мест и
неминуемо приведет в российских
условиях к краху структур
повседневности для более чем
миллиона человек), это будет
означать лишь отрубание кошачьего
хвоста по частям: возрастающая
нагрузка на бюджет, мучительная
маргинализация некогда одной из
самых привилегированных и
политически весомых групп рабочих,
деградация угледобывающих
регионов. Оттягивание решения -
катастрофа в рассрочку, с
минимальными надеждами на
реабилитацию. Принятие решения -
при существующем госаппарате
(системе
переквалификации, переселения,
материальной поддержки
безработных) - означает неминуемый
болевой шок, но дает некоторые
шансы в среднесрочном будущем.
![]() 2. Если
термидорианскому режиму удастся
свести нынешнюю хроническую
предкатастрофу-кризис к
структурному кризису (что само по
себе означало бы колоссальный его
успех), для огромных секторов
экономики и занятых в них людей это
все равно будет означать
катастрофу. Причем процесс будет
сконцентрирован географически,
целые регионы (например, Большой
Урал, Среднее Поволжье) могут
превратиться в зоны сплошного
социального бедствия,
приобретающего характер
катастрофы в малых и средних
"монофабричных" городах,
которые и возникли-то вокруг
одного-двух заводов (какие-нибудь
Северодвинск, Каменск-Уральский
или Первоуральск). Понятно, что
значит для 50-150-тысячных городов
закрытие их главных предприятий, на
которых "висит" вся социальная
сфера (жилфонд, транспорт,
инфраструктура, детские
учреждения, а иногда и медицина)...
2. Если
термидорианскому режиму удастся
свести нынешнюю хроническую
предкатастрофу-кризис к
структурному кризису (что само по
себе означало бы колоссальный его
успех), для огромных секторов
экономики и занятых в них людей это
все равно будет означать
катастрофу. Причем процесс будет
сконцентрирован географически,
целые регионы (например, Большой
Урал, Среднее Поволжье) могут
превратиться в зоны сплошного
социального бедствия,
приобретающего характер
катастрофы в малых и средних
"монофабричных" городах,
которые и возникли-то вокруг
одного-двух заводов (какие-нибудь
Северодвинск, Каменск-Уральский
или Первоуральск). Понятно, что
значит для 50-150-тысячных городов
закрытие их главных предприятий, на
которых "висит" вся социальная
сфера (жилфонд, транспорт,
инфраструктура, детские
учреждения, а иногда и медицина)...
![]() Однако
самостоятельно бежать из таких зон
бедствия почти невозможно.
Традиционно крайне низкая
географическая мобильность
населения, заложенная в культуре,
оказалась намертво закреплена
положением на рынке жилья.
Однако
самостоятельно бежать из таких зон
бедствия почти невозможно.
Традиционно крайне низкая
географическая мобильность
населения, заложенная в культуре,
оказалась намертво закреплена
положением на рынке жилья.
![]() Сам этот рынок
(когда и если он появится) будет
препятствовать горизонтальной
мобильности: поскольку стоимость
жилья в обширных депрессивных
регионах будет ниже, чем в немногих
и ограниченных развивающихся
регионах, продать жилье в
"плохом" месте и на
сопоставимые деньги купить в
"хорошем" будет невозможно
(без целевых госдотаций по крайней
мере).
Сам этот рынок
(когда и если он появится) будет
препятствовать горизонтальной
мобильности: поскольку стоимость
жилья в обширных депрессивных
регионах будет ниже, чем в немногих
и ограниченных развивающихся
регионах, продать жилье в
"плохом" месте и на
сопоставимые деньги купить в
"хорошем" будет невозможно
(без целевых госдотаций по крайней
мере).
![]() Все это - лишь
человеческое измерение
структурного кризиса. Но чтобы
кризис стал структурным, его еще
надо заслужить. И до него еще надо
дожить.
Все это - лишь
человеческое измерение
структурного кризиса. Но чтобы
кризис стал структурным, его еще
надо заслужить. И до него еще надо
дожить.
![]() А после него -
выжить.
А после него -
выжить.
![]() 3. Как часто
бывает в истории, главный носитель
Великого Рыночного Мифа и главный
социальный персонаж перестройки -
ССК - одним из первых попал под
колеса стронутого им с горочки
вагона.
3. Как часто
бывает в истории, главный носитель
Великого Рыночного Мифа и главный
социальный персонаж перестройки -
ССК - одним из первых попал под
колеса стронутого им с горочки
вагона.
![]() Его социальная
масса, статус, структура были во
многом функцией от мирового
статуса СССР как центра "второго
мира", глобального оппонента
Запада, от культурно и
идеологически детерминированного
тотального (и для общества в целом,
по-моему, иррационального,
самоубийственного) противостояния
этого "второго мира" "миру
первому".
Его социальная
масса, статус, структура были во
многом функцией от мирового
статуса СССР как центра "второго
мира", глобального оппонента
Запада, от культурно и
идеологически детерминированного
тотального (и для общества в целом,
по-моему, иррационального,
самоубийственного) противостояния
этого "второго мира" "миру
первому".
![]() Отказ от
тотального противостояния, от
претензий на мировую гегемонию или
хотя бы на стратегический паритет
означал такую рационализацию,
такую смену общественных
приоритетов, которая делала
однозначно избыточным (и
несбыточным) для общества,
истощенного безнадежной гонкой за
лидером, и уровень общего
образования, и уровень науки, и
концентрацию инженерных мозгов в
рыночно-тупиковых оборонных
анклавах.
Отказ от
тотального противостояния, от
претензий на мировую гегемонию или
хотя бы на стратегический паритет
означал такую рационализацию,
такую смену общественных
приоритетов, которая делала
однозначно избыточным (и
несбыточным) для общества,
истощенного безнадежной гонкой за
лидером, и уровень общего
образования, и уровень науки, и
концентрацию инженерных мозгов в
рыночно-тупиковых оборонных
анклавах.
![]() "Нормальное",
не закованное в государственный
корсет общество оказалось не в
состоянии содержать такое
количество "образованных
масс".
"Нормальное",
не закованное в государственный
корсет общество оказалось не в
состоянии содержать такое
количество "образованных
масс".
![]() Катастрофа
советской системы означала
невозможность существования в
прежнем виде культурного гегемона
ССК - традиционной советской
интеллигенции. Централизованное
перераспределение и
пространственная иерархия (район -
город - область - республика - союз)
были основой ее существования.
Катастрофа
советской системы означала
невозможность существования в
прежнем виде культурного гегемона
ССК - традиционной советской
интеллигенции. Централизованное
перераспределение и
пространственная иерархия (район -
город - область - республика - союз)
были основой ее существования.
![]() Бедная по
большинству показателей страна
реально не могла содержать всех
ученых, врачей, учителей, инженеров
иначе, как обирая реальных
производителей и проедая
невозобновляемые ресурсы. Для
такого перераспределения в пользу
ССК была необходима действительно
авторитарная власть.
Бедная по
большинству показателей страна
реально не могла содержать всех
ученых, врачей, учителей, инженеров
иначе, как обирая реальных
производителей и проедая
невозобновляемые ресурсы. Для
такого перераспределения в пользу
ССК была необходима действительно
авторитарная власть.
![]() Таким образом,
власть, которая давила и
ограничивала интеллигенцию и
воспринималась ею (прежде всего в
столичных и крупнейших городах) как
враждебная, в действительности
была не только ее социальным
творцом, но и непременным условием
ее существования. Именно эта власть
создала и поддерживала главные
условия социального бытия
интеллигенции - возможность
существовать во внерыночной среде
в значительной степени без
реальной связи с производственными
или иными экономическими
функциями.
Таким образом,
власть, которая давила и
ограничивала интеллигенцию и
воспринималась ею (прежде всего в
столичных и крупнейших городах) как
враждебная, в действительности
была не только ее социальным
творцом, но и непременным условием
ее существования. Именно эта власть
создала и поддерживала главные
условия социального бытия
интеллигенции - возможность
существовать во внерыночной среде
в значительной степени без
реальной связи с производственными
или иными экономическими
функциями.
![]() Именно это
"воздушное существование"
сделало возможным рождение и
сохранение специфического
интеллигентского менталитета -
антипрактичного, рефлексивного,
снобистского и эстетизированного.
Речь идет о целой интеллигентской
субкультуре - со своим образом
жизни, мыслей, с ритуалами и
культурой общения.
Именно это
"воздушное существование"
сделало возможным рождение и
сохранение специфического
интеллигентского менталитета -
антипрактичного, рефлексивного,
снобистского и эстетизированного.
Речь идет о целой интеллигентской
субкультуре - со своим образом
жизни, мыслей, с ритуалами и
культурой общения.
![]() Все это - вместе с
замечательным по-своему культурным
пластом - могло существовать лишь
под колпаком власти, в диалоге и
противостоянии ей.
Все это - вместе с
замечательным по-своему культурным
пластом - могло существовать лишь
под колпаком власти, в диалоге и
противостоянии ей.
![]() Духовно
изолировав и сокрушив политическую
систему, которая его же породила и
поддерживала, ССК сам оказался
перед лицом распада и уничтожения.
Меньшая (молодая и наиболее
активная) его часть успешно
встраивается в раннерыночные
институты и механизмы,
персонифицируя образы российских
"yuppies" и новой буржуазии. В этом
осколке ССК/интеллигенции
зарождаются новые для России
группы интеллектуалов и
профессионалов, обслуживающие не
столько российские группы
интересов, сколько интересы
мирового рынка в России, -
управленцы, банковские служащие,
переводчики и пр. На этом же
пятачке, как один из наследников
советской интеллигенции,
появляется совершенно
третьемирский феномен
"компрадорской
интеллигенции", живущей на
западные гранты, моделирующей свою
жизнь и работу по возможностям их
получения.
Духовно
изолировав и сокрушив политическую
систему, которая его же породила и
поддерживала, ССК сам оказался
перед лицом распада и уничтожения.
Меньшая (молодая и наиболее
активная) его часть успешно
встраивается в раннерыночные
институты и механизмы,
персонифицируя образы российских
"yuppies" и новой буржуазии. В этом
осколке ССК/интеллигенции
зарождаются новые для России
группы интеллектуалов и
профессионалов, обслуживающие не
столько российские группы
интересов, сколько интересы
мирового рынка в России, -
управленцы, банковские служащие,
переводчики и пр. На этом же
пятачке, как один из наследников
советской интеллигенции,
появляется совершенно
третьемирский феномен
"компрадорской
интеллигенции", живущей на
западные гранты, моделирующей свою
жизнь и работу по возможностям их
получения.
![]() Большая же часть
фрустрированного ССК все более
сближается с иными группами
наемных работников, постепенно
утрачивая самоощущение культурной
"белой кости", ностальгируя по
статусу и "dolce far niente"
брежневского двадцатилетия. Часть
из них голосовала за Жириновского...
Большая же часть
фрустрированного ССК все более
сближается с иными группами
наемных работников, постепенно
утрачивая самоощущение культурной
"белой кости", ностальгируя по
статусу и "dolce far niente"
брежневского двадцатилетия. Часть
из них голосовала за Жириновского...
![]() Называть ли все
это катастрофой интеллигенции?
Называть ли все
это катастрофой интеллигенции?
![]() Пожалуй. Хотя...
Пожалуй. Хотя...
![]() По некоторым
наблюдениям, именно в этой среде
маргинализованной массовой (прежде
всего технической) интеллигенции
зарождается то самоощущение (в
будущем - самосознание?) класса
наемных работников, отсутствие
которого превращает
социально-психологическую картину
постсоветского общества в
бесструктурную "кашу, кипящую в
котелке".
По некоторым
наблюдениям, именно в этой среде
маргинализованной массовой (прежде
всего технической) интеллигенции
зарождается то самоощущение (в
будущем - самосознание?) класса
наемных работников, отсутствие
которого превращает
социально-психологическую картину
постсоветского общества в
бесструктурную "кашу, кипящую в
котелке".
![]() IV. Социальная педагогика
катастрофы
IV. Социальная педагогика
катастрофы
![]() В массовом
сознании как реальная человеческая
катастрофа воспринимается не
падение производства вообще, а
закрытие предприятий, не
отсутствие заказов и сбыта, а
отсутствие оплачиваемой работы.
Главным из этого скорбного листа,
несомненно, представляется падение
реального уровня жизни нескольких
десятков миллионов людей. Оценки
количества семей, чьи доходы упали
"ниже уровня бедности",
приводятся разные, но по всем
методикам количество
"нетто-проигравших"
колоссально.
В массовом
сознании как реальная человеческая
катастрофа воспринимается не
падение производства вообще, а
закрытие предприятий, не
отсутствие заказов и сбыта, а
отсутствие оплачиваемой работы.
Главным из этого скорбного листа,
несомненно, представляется падение
реального уровня жизни нескольких
десятков миллионов людей. Оценки
количества семей, чьи доходы упали
"ниже уровня бедности",
приводятся разные, но по всем
методикам количество
"нетто-проигравших"
колоссально.
![]() Казалось бы, это -
предел, за которым социальный
инстинкт диктует людям стратегию
выживания: использование любой
возможности получения любых
пособий, многократное
совместительство, простейшую
потребительскую кооперацию, поиски
любых форм самозанятости и
занятости в негосударственном
секторе, любой возможности
переквалификации и т.п. Однако все
это наблюдается в российском
обществе в поразительно малой
степени.
Казалось бы, это -
предел, за которым социальный
инстинкт диктует людям стратегию
выживания: использование любой
возможности получения любых
пособий, многократное
совместительство, простейшую
потребительскую кооперацию, поиски
любых форм самозанятости и
занятости в негосударственном
секторе, любой возможности
переквалификации и т.п. Однако все
это наблюдается в российском
обществе в поразительно малой
степени.
![]() В крупнейших
городах появились уже сотни тысяч
"новых богатых", готовых
покупать услуги. В то же время
сделать ремонт в квартире, найти
автомеханика, няню ребенку,
уборщицу квартиры или домработницу
- в большинстве городов все еще
проблема.
В крупнейших
городах появились уже сотни тысяч
"новых богатых", готовых
покупать услуги. В то же время
сделать ремонт в квартире, найти
автомеханика, няню ребенку,
уборщицу квартиры или домработницу
- в большинстве городов все еще
проблема.
![]() Количество
вакансий на предприятиях
сокращается гораздо медленнее, чем
растет безработица, - люди все еще
относятся к работе как к гарантированной
государством необходимости, а не
как к жизненной удаче и, даже под
угрозой потери работы или уже
потеряв ее, все еще отказываются
проходить переквалификацию (даже
за государственный счет!).
Межпрофессиональная мобильность в
госсекторе страны практически не
выросла, хотя десятки отраслей уже
несколько лет находятся в глубоком
кризисе и практически не имеют
шансов на выживание.
Количество
вакансий на предприятиях
сокращается гораздо медленнее, чем
растет безработица, - люди все еще
относятся к работе как к гарантированной
государством необходимости, а не
как к жизненной удаче и, даже под
угрозой потери работы или уже
потеряв ее, все еще отказываются
проходить переквалификацию (даже
за государственный счет!).
Межпрофессиональная мобильность в
госсекторе страны практически не
выросла, хотя десятки отраслей уже
несколько лет находятся в глубоком
кризисе и практически не имеют
шансов на выживание.
![]() "Делай, что
нужно рынку, или иди на дно" -
таков жестокий императив
катастрофы, которому сегодня
противостоят представления о
престиже профессий и образования,
традиционная сетка социальных
статусов, все еще склеенная с
государственной табелью о рангах,
исключительно завышенные
социальные ожидания и
"вертикальная"
ориентированность молодежи.
"Делай, что
нужно рынку, или иди на дно" -
таков жестокий императив
катастрофы, которому сегодня
противостоят представления о
престиже профессий и образования,
традиционная сетка социальных
статусов, все еще склеенная с
государственной табелью о рангах,
исключительно завышенные
социальные ожидания и
"вертикальная"
ориентированность молодежи.
![]() Между тем,
возможно, именно экономический
обвал, действительно массовая
безработица, настоящая катастрофа
уровня жизни являются неизбежным (и
в этом смысле необходимым)
средством изменения шкалы
ценностей массового сознания.
Только потрясения такого масштаба
могут снизить завышенные (по
отношению к возможностям и
потребностям развития страны)
социальные притязания и ожидания.
Между тем,
возможно, именно экономический
обвал, действительно массовая
безработица, настоящая катастрофа
уровня жизни являются неизбежным (и
в этом смысле необходимым)
средством изменения шкалы
ценностей массового сознания.
Только потрясения такого масштаба
могут снизить завышенные (по
отношению к возможностям и
потребностям развития страны)
социальные притязания и ожидания.
![]() Без подобного
снижения ожиданий адаптация к
условиям кризиса, а стало быть, и
преодоление его - невозможны. Одна
из трудноразрешимых проблем
постсоветской реформации - именно
высокий стартовый уровень
социального благополучия и
завышенный (по отношению к реально
достижимому) уровень ожиданий.
Без подобного
снижения ожиданий адаптация к
условиям кризиса, а стало быть, и
преодоление его - невозможны. Одна
из трудноразрешимых проблем
постсоветской реформации - именно
высокий стартовый уровень
социального благополучия и
завышенный (по отношению к реально
достижимому) уровень ожиданий.
![]() Все общества,
успешно проходившие через горнило
структурной перестройки и
модернизации, начинали с гораздо
более низких уровней: лежащие в
послевоенных руинах Германия,
Япония и Корея, голодный,
неграмотный, разоренный
"культурной революцией" Китай,
промышленно пустынный Тайвань,
третьемирские по изначальной
природе своей "азиатские
драконы". На другом стартовом
уровне находились и Чили, Испания,
Турция. Абсолютно все удачные
примеры прорыва объединяло
использование "преимуществ
отсталости" или...
предшествовавшей катастрофы.
России в этом смысле "труднее",
ибо крушение дореформенного уровня
и образа жизни произошло не в
недрах старого режима, а значит (для
массового сознания) - вне пределов
его ответственности.
Все общества,
успешно проходившие через горнило
структурной перестройки и
модернизации, начинали с гораздо
более низких уровней: лежащие в
послевоенных руинах Германия,
Япония и Корея, голодный,
неграмотный, разоренный
"культурной революцией" Китай,
промышленно пустынный Тайвань,
третьемирские по изначальной
природе своей "азиатские
драконы". На другом стартовом
уровне находились и Чили, Испания,
Турция. Абсолютно все удачные
примеры прорыва объединяло
использование "преимуществ
отсталости" или...
предшествовавшей катастрофы.
России в этом смысле "труднее",
ибо крушение дореформенного уровня
и образа жизни произошло не в
недрах старого режима, а значит (для
массового сознания) - вне пределов
его ответственности.
![]() Каждый шаг
реформистов сравнивается в
сознании народа с закономерно
мифологизированным уровнем
дореформенного благополучия
"застоя". Катастрофа же
приходит не извне (война, стихийное
бедствие, игра мировых сил), а как бы
в результате действий реформистов,
как закономерный итог реформы.
Каждый шаг
реформистов сравнивается в
сознании народа с закономерно
мифологизированным уровнем
дореформенного благополучия
"застоя". Катастрофа же
приходит не извне (война, стихийное
бедствие, игра мировых сил), а как бы
в результате действий реформистов,
как закономерный итог реформы.
![]() Именно поэтому
можно сказать, что функция
катастрофы в
социально-психологическом плане
будет - при оптимальном сценарии
-состоять в глубинном смещении
координат сравнения. Через
отчаяние, отрешение от мифов люди
уже учатся опираться на себя, а не
на отеческое государство. Это будет
воспитание отчаянием.
Фактически речь идет о настоящей
революции традиционно
этатистского российского
исторического сознания.
Именно поэтому
можно сказать, что функция
катастрофы в
социально-психологическом плане
будет - при оптимальном сценарии
-состоять в глубинном смещении
координат сравнения. Через
отчаяние, отрешение от мифов люди
уже учатся опираться на себя, а не
на отеческое государство. Это будет
воспитание отчаянием.
Фактически речь идет о настоящей
революции традиционно
этатистского российского
исторического сознания.
![]() V. Возможные компенсаторы
V. Возможные компенсаторы
![]() 1. "Культура
бедности"
1. "Культура
бедности"
![]() В человеческом
измерении катастрофы (т.е., с точки
зрения структур повседневности)
безработица будет, возможно, самой
страшной ее стороной. Однако
рабочие места, теряемые в
госсектоpе, будут, как показывает
мировой опыт, в какой-то (неполной,
конечно) мере компенсироваться
различными примитивными формами
самозанятости, "неформальным
сектором экономики" - личными
подсобными хозяйствами, мелкой
спекуляцией, предложением
различных услуг типа ремонта и
переделки одежды и обуви. Это будет
"бизнес для бедных" -
малоэффективная,
непроизводительная, но социально
достаточно мощная буферная
система, которая позволит не только
не умирать с голоду, но и не
выпадать в социальный осадок, а
возможно, и оставаться политически
значимой силой.
В человеческом
измерении катастрофы (т.е., с точки
зрения структур повседневности)
безработица будет, возможно, самой
страшной ее стороной. Однако
рабочие места, теряемые в
госсектоpе, будут, как показывает
мировой опыт, в какой-то (неполной,
конечно) мере компенсироваться
различными примитивными формами
самозанятости, "неформальным
сектором экономики" - личными
подсобными хозяйствами, мелкой
спекуляцией, предложением
различных услуг типа ремонта и
переделки одежды и обуви. Это будет
"бизнес для бедных" -
малоэффективная,
непроизводительная, но социально
достаточно мощная буферная
система, которая позволит не только
не умирать с голоду, но и не
выпадать в социальный осадок, а
возможно, и оставаться политически
значимой силой.
![]() Такой процесс в
России уже пошел - быстрее и
успешнее, чем можно было ожидать.
При полном отсутствии статистики
только им можно объяснить
сравнительную социальную
стабильность и устойчивость уровня
жизни в больших городах со стоящими
в основном заводами (типа
Новосибирска). Более того, по
некоторым наблюдениям, во многих
даже депрессивных регионах (типа
Ивановской области) продолжают
расти накопления населения.
Такой процесс в
России уже пошел - быстрее и
успешнее, чем можно было ожидать.
При полном отсутствии статистики
только им можно объяснить
сравнительную социальную
стабильность и устойчивость уровня
жизни в больших городах со стоящими
в основном заводами (типа
Новосибирска). Более того, по
некоторым наблюдениям, во многих
даже депрессивных регионах (типа
Ивановской области) продолжают
расти накопления населения.
![]() Фактически
легализованный "черный рынок"
оказался главным институтом
социального выживания и
инструментом адаптации населения,
намного более эффективным, чем
любые социальные программы
государства.
Фактически
легализованный "черный рынок"
оказался главным институтом
социального выживания и
инструментом адаптации населения,
намного более эффективным, чем
любые социальные программы
государства.
![]() Другой стороной
того же явления компенсации будет и
возрождение "культуры
бедности", противостоящей нищете
и представляющей собой реальный этос
социального выживания, сумму
социальных навыков и экономических
приемов достойной "жизни на
грани".
Другой стороной
того же явления компенсации будет и
возрождение "культуры
бедности", противостоящей нищете
и представляющей собой реальный этос
социального выживания, сумму
социальных навыков и экономических
приемов достойной "жизни на
грани".
![]() Культура эта в
России умерла совсем недавно, в
60-70-е годы (а может быть, и не везде),
в результате двадцатилетнего
стабильного экономического роста,
массового жилищного строительства
и осреднения городского населения
через уравнительную политику
доходов. Выработанная частично в
бараках и коммуналках времен
индустриализации, частично в
недрах ГУЛАГа и спецпоселений,
советская "культура бедности"
охватывала практически все стороны
жизни, включая соответствующие
социальные навыки (соседская
взаимопомощь, присмотр за детьми
работающих, совместные заготовки
картофеля, квашение капусты и
заклейка окон на зиму и пр.),
элементы материальной культуры
(унаследованное от крестьян
отношение к вещам: ничего не
выбрасывается, одежда носится
дотла, пуговицы с нее и кожа с
изношенной обуви срезаются для
ремонта следующей пары, стеклотара
сдается и пр.) и многое-многое
другое.
Культура эта в
России умерла совсем недавно, в
60-70-е годы (а может быть, и не везде),
в результате двадцатилетнего
стабильного экономического роста,
массового жилищного строительства
и осреднения городского населения
через уравнительную политику
доходов. Выработанная частично в
бараках и коммуналках времен
индустриализации, частично в
недрах ГУЛАГа и спецпоселений,
советская "культура бедности"
охватывала практически все стороны
жизни, включая соответствующие
социальные навыки (соседская
взаимопомощь, присмотр за детьми
работающих, совместные заготовки
картофеля, квашение капусты и
заклейка окон на зиму и пр.),
элементы материальной культуры
(унаследованное от крестьян
отношение к вещам: ничего не
выбрасывается, одежда носится
дотла, пуговицы с нее и кожа с
изношенной обуви срезаются для
ремонта следующей пары, стеклотара
сдается и пр.) и многое-многое
другое.
![]() Нищета
убийственна и безысходна - массовая
же бедность (если она действительно
неизбежна, а я думаю именно так)
может быть достойной и социально
небезнадежной. Но для этого она
должна быть освящена своеобразной
идеологией солидарного выживания,
этосом и даже эстетикой
бернсовской честной бедности, в
логике которых действительно "бедность
- не порок", а временное, но
понимаемое и поэтому принимаемое
обществом состояние.
Нищета
убийственна и безысходна - массовая
же бедность (если она действительно
неизбежна, а я думаю именно так)
может быть достойной и социально
небезнадежной. Но для этого она
должна быть освящена своеобразной
идеологией солидарного выживания,
этосом и даже эстетикой
бернсовской честной бедности, в
логике которых действительно "бедность
- не порок", а временное, но
понимаемое и поэтому принимаемое
обществом состояние.
![]() Конечно, таким
образом понимаемая культура
бедности может быть устойчиво
социально продуктивной лишь в том
случае, если она уравновешивается
общим этосом служения,
самоограничения, социальной
ответственности богатства (своего
рода "культурой богатства").
Конечно, таким
образом понимаемая культура
бедности может быть устойчиво
социально продуктивной лишь в том
случае, если она уравновешивается
общим этосом служения,
самоограничения, социальной
ответственности богатства (своего
рода "культурой богатства").
![]() 2.
Идеологическая анестезия
2.
Идеологическая анестезия
![]() Трудно подобрать
исторические аналоги искомого
этоса. Возможно, некоей
исторической метафорой того, что
необходимо для формирования
сознания "ответственного
богатства", могут служить,
скажем, западноевропейская
буржуазная "этика исторического
послушания" или самосознание
конгрессистской буржуазии Индии. (В
мировой исторической панораме
можно подобрать еще с десяток
примеров подобного социального
самоограничения и самодисциплины
богатства.)
Трудно подобрать
исторические аналоги искомого
этоса. Возможно, некоей
исторической метафорой того, что
необходимо для формирования
сознания "ответственного
богатства", могут служить,
скажем, западноевропейская
буржуазная "этика исторического
послушания" или самосознание
конгрессистской буржуазии Индии. (В
мировой исторической панораме
можно подобрать еще с десяток
примеров подобного социального
самоограничения и самодисциплины
богатства.)
![]() Элементы обеих
субкультур уже существуют на
периферии постсоветского социума,
но заставить их системно работать
как значимый компенсатор
катастрофы может лишь некая
общенациональная мета-идеология,
минимальный ценностный консенсус,
который почти никогда в истории не
возникает стихийно.
Элементы обеих
субкультур уже существуют на
периферии постсоветского социума,
но заставить их системно работать
как значимый компенсатор
катастрофы может лишь некая
общенациональная мета-идеология,
минимальный ценностный консенсус,
который почти никогда в истории не
возникает стихийно.
![]() Поскольку сам по
себе подобный проектный подход
предполагает существование
некоего субъекта (в явно
бессубъектной ситуации
сегодняшней России), он, конечно же,
выглядит как вариант wishful thinking. В
значительной мере так оно и есть.
Поскольку сам по
себе подобный проектный подход
предполагает существование
некоего субъекта (в явно
бессубъектной ситуации
сегодняшней России), он, конечно же,
выглядит как вариант wishful thinking. В
значительной мере так оно и есть.
![]() Однако надеяться
на автоматизм реакций
общественного сознания здесь не
приходится: вектор явно направлен в
противоположную сторону. По этому
вектору "ломит"
всепроникающий в информационном
обществе (а Россия уже стала
таковой) "демонстрационный
эффект" развитого Севера
("Запада").
Однако надеяться
на автоматизм реакций
общественного сознания здесь не
приходится: вектор явно направлен в
противоположную сторону. По этому
вектору "ломит"
всепроникающий в информационном
обществе (а Россия уже стала
таковой) "демонстрационный
эффект" развитого Севера
("Запада").
![]() Открыв иные
горизонты и возможности хозяевам
той, советской жизни,
"демонстрационный эффект"
сокрушил внутреннюю органику
советской цивилизации, взорвал
жестко пригнанную иерархию
ценностей и страт. И он же
продолжает разгонять вразнос на
потребительской центрифуге
общество, объективно нуждающееся в
самодисциплине и самоограничении
(прежде всего, конечно, тех 10 - 30%, кто
может в этой гонке участвовать).
Открыв иные
горизонты и возможности хозяевам
той, советской жизни,
"демонстрационный эффект"
сокрушил внутреннюю органику
советской цивилизации, взорвал
жестко пригнанную иерархию
ценностей и страт. И он же
продолжает разгонять вразнос на
потребительской центрифуге
общество, объективно нуждающееся в
самодисциплине и самоограничении
(прежде всего, конечно, тех 10 - 30%, кто
может в этой гонке участвовать).
![]() Результат такой
сверхпотребительской ориентации,
порождая вторичные идеологические
эффекты, пробивает насквозь все
общество. На одном его полюсе
стремительно набирает обороты
Великий меритократический миф
("выигрывает достойнейший,
проигравший сам виноват",
"если ты такой умный, то где же
твои денежки" и пр.), волею судеб
перемещенный из США конца прошлого
века в Россию конца нынешнего. На
другом полюсе накапливается
фрустрация, которая обернется либо
апатией, либо разрушительным
взрывом отчаяния.
Результат такой
сверхпотребительской ориентации,
порождая вторичные идеологические
эффекты, пробивает насквозь все
общество. На одном его полюсе
стремительно набирает обороты
Великий меритократический миф
("выигрывает достойнейший,
проигравший сам виноват",
"если ты такой умный, то где же
твои денежки" и пр.), волею судеб
перемещенный из США конца прошлого
века в Россию конца нынешнего. На
другом полюсе накапливается
фрустрация, которая обернется либо
апатией, либо разрушительным
взрывом отчаяния.
![]() Оба варианта
равно губительны. Если они
приобретут самоподдерживающую
инерцию и не будут обузданы,
отставшая модернизация рискует
превратиться в опоздавшую.
Оба варианта
равно губительны. Если они
приобретут самоподдерживающую
инерцию и не будут обузданы,
отставшая модернизация рискует
превратиться в опоздавшую.
![]() 3.
"Страховочная сетка"
3.
"Страховочная сетка"
![]() Мне кажется,
удержать (точнее, восстановить)
достигнутый в СССР к концу 70-х годов
осредненный уровень жизни в
ближайшие десятилетия Россия не
сможет ни при каких условиях.
Мне кажется,
удержать (точнее, восстановить)
достигнутый в СССР к концу 70-х годов
осредненный уровень жизни в
ближайшие десятилетия Россия не
сможет ни при каких условиях.
![]() Реально можно
лишь удерживать стихийные процессы
дифференциации в определенных
рамках, как-то вписывающихся в
традиционные для страны парадигмы
восприятия богатства и бедности.
Налоговая и прочая рестриктивная
практика по отношению к личному
богатству вполне традиционна для
России. Хуже - с государственной
политикой в отношении "новых
бедных". В этой сфере практически
нет традиций и идеологии. Институты
советского типа (собес, службы
занятости) архаичны и не
ориентированы на активную
стратегию.
Реально можно
лишь удерживать стихийные процессы
дифференциации в определенных
рамках, как-то вписывающихся в
традиционные для страны парадигмы
восприятия богатства и бедности.
Налоговая и прочая рестриктивная
практика по отношению к личному
богатству вполне традиционна для
России. Хуже - с государственной
политикой в отношении "новых
бедных". В этой сфере практически
нет традиций и идеологии. Институты
советского типа (собес, службы
занятости) архаичны и не
ориентированы на активную
стратегию.
![]() Между тем лишь
активные варианты "смягчающей
страховки" при выпадении людей
из социальной ниши могут работать
как эффективный компенсатор.
Переквалификация, общественные
работы, строительство дорог, линий
связи, жилищное строительство - все
это серьезные ресурсы компенсации.
Между тем лишь
активные варианты "смягчающей
страховки" при выпадении людей
из социальной ниши могут работать
как эффективный компенсатор.
Переквалификация, общественные
работы, строительство дорог, линий
связи, жилищное строительство - все
это серьезные ресурсы компенсации.
![]() Наконец, нельзя
исключать и чисто гипотетическую
возможность направить начавшиеся
уже процессы деиндустриализации в
русло дезурбанизации, переключить
поток безработных на миграцию в
сельскую местность, что может стать
серьезным фактором развития страны
в будущем. Этот вариант означал бы
беспрецедентный сдвиг, возможно,
цивилизационного масштаба.
Наконец, нельзя
исключать и чисто гипотетическую
возможность направить начавшиеся
уже процессы деиндустриализации в
русло дезурбанизации, переключить
поток безработных на миграцию в
сельскую местность, что может стать
серьезным фактором развития страны
в будущем. Этот вариант означал бы
беспрецедентный сдвиг, возможно,
цивилизационного масштаба.
![]() Бесспорно, все
подобные стратегии упираются в
культурно-политические,
институциональные,
социально-психологические,
инвестиционные ограничения.
Бесспорно, все
подобные стратегии упираются в
культурно-политические,
институциональные,
социально-психологические,
инвестиционные ограничения.
![]() VI. Вектор
VI. Вектор
![]() Катастрофа
противостоит в логике нашего
построения как упущенной
(маловероятной) управляемой
консервативной реформе (Китай,
Вьетнам; на Западе - превентивная
антиреволюционная реформа в
Испании), так и гниению -
неуправляемой консервативной
эволюции ("ползучей реформе").
Катастрофа
противостоит в логике нашего
построения как упущенной
(маловероятной) управляемой
консервативной реформе (Китай,
Вьетнам; на Западе - превентивная
антиреволюционная реформа в
Испании), так и гниению -
неуправляемой консервативной
эволюции ("ползучей реформе").
![]() Конечно, и
гниение может быть
"благодатным" - т.е.
исторически продуктивным, что
подразумевает некое
реструктурирование общества и
хозяйства в самом процессе
медленного разложения его структур
(Турция 30 - 70-х, Польша 80-х...).
Конечно, и
гниение может быть
"благодатным" - т.е.
исторически продуктивным, что
подразумевает некое
реструктурирование общества и
хозяйства в самом процессе
медленного разложения его структур
(Турция 30 - 70-х, Польша 80-х...).
![]() Но при любом
варианте - это проедание ранее
накопленного человеческого и
социального капитала, оно может
стать для страны путем в помойку на
несколько десятков лет, может
обернуться потерей старого мира
без приобретения нового.
Но при любом
варианте - это проедание ранее
накопленного человеческого и
социального капитала, оно может
стать для страны путем в помойку на
несколько десятков лет, может
обернуться потерей старого мира
без приобретения нового.
![]() Катастрофа дает
шанс (не более чем шанс) начать
"по новой". "По пожарищу
растет лучше" - это звучит
страшно, но исторически вполне
верифицируемо (тривиально:
послевоенные Япония и Германия,
нэповское золотое пятилетие
русского крестьянства...).
Катастрофа дает
шанс (не более чем шанс) начать
"по новой". "По пожарищу
растет лучше" - это звучит
страшно, но исторически вполне
верифицируемо (тривиально:
послевоенные Япония и Германия,
нэповское золотое пятилетие
русского крестьянства...).
![]() То, что
происходит в России, - это (в данной
логике) недокатастрофа или
предкатастрофа. Не произошло
важнейшего катастрофического
сдвига - смены элит. Старая
советская элита открылась для
нового пополнения из рядов ССК. В
ней произошел
культурно-поколенческий сдвиг, но,
потеряв внутреннюю иерархию,
ускорив ротацию, увеличив кадровую
мобильность, она сохранила
основные модели социального
поведения и систему ценностей,
включила "новых людей" в
контекст "класса власти".
То, что
происходит в России, - это (в данной
логике) недокатастрофа или
предкатастрофа. Не произошло
важнейшего катастрофического
сдвига - смены элит. Старая
советская элита открылась для
нового пополнения из рядов ССК. В
ней произошел
культурно-поколенческий сдвиг, но,
потеряв внутреннюю иерархию,
ускорив ротацию, увеличив кадровую
мобильность, она сохранила
основные модели социального
поведения и систему ценностей,
включила "новых людей" в
контекст "класса власти".
![]() Вместе с тем как
"власть класса" нынешний режим
не работает. В этой открыто
бессубъектной ситуации
(деградировавший уже госаппарат и
все еще бессильное гражданское
общество) не от кого ожидать
сколь-либо сложных, тонких,
требующих социальной
ответственности и дисциплины
решений.
Вместе с тем как
"власть класса" нынешний режим
не работает. В этой открыто
бессубъектной ситуации
(деградировавший уже госаппарат и
все еще бессильное гражданское
общество) не от кого ожидать
сколь-либо сложных, тонких,
требующих социальной
ответственности и дисциплины
решений.
![]() Вероятны лишь
очень простые ("по течению")
маневры, основные процессы будут
происходить спонтанно. И в этом
смысле недокатастрофа социума
будет означать локальные,
групповые, частные катастрофы
вроде уже, видимо, неизбежной
катастрофы российских
"Северов" и части
угледобывающих регионов, кончины
отраслевых комплексов (типа
машиностроения), в значительной
степени - науки и, вероятно,
социальной инфраструктуры
(медицины, образования).
Вероятны лишь
очень простые ("по течению")
маневры, основные процессы будут
происходить спонтанно. И в этом
смысле недокатастрофа социума
будет означать локальные,
групповые, частные катастрофы
вроде уже, видимо, неизбежной
катастрофы российских
"Северов" и части
угледобывающих регионов, кончины
отраслевых комплексов (типа
машиностроения), в значительной
степени - науки и, вероятно,
социальной инфраструктуры
(медицины, образования).
![]() Вектор развития
ситуации направлен именно на это
множество катастроф, однако
кумулятивная тотальная катастрофа,
подобная катастрофе рубежа XVI - XVII
вв. или 1914 - 1923 гг., в
урбанизированном индустриальном
обществе все же крайне
маловероятна.
Вектор развития
ситуации направлен именно на это
множество катастроф, однако
кумулятивная тотальная катастрофа,
подобная катастрофе рубежа XVI - XVII
вв. или 1914 - 1923 гг., в
урбанизированном индустриальном
обществе все же крайне
маловероятна.
![]() Приведет ли
движение по вектору катастроф к
модернизации? Чтобы ответить на
этот вопрос, сначала надо ответить
на другой: чем была советская
система, в чем ее исторический
смысл? Была ли она специфическим
путем модернизации отстающего
"на эшелон" общества или
цивилизационной альтернативой
западному ("марксову")
капитализму? Никакие частные
истолкования кризиса и
последовавшего за ним краха не
могут заменить ответа на последний
вопрос (в любых его формулировках).
По-моему, в советском феномене,
чередуясь во времени, доминировали
оба эти начала. Как наследник
старорусского космоса, советская
система, несомненно, такой
альтернативой была. Сама
грандиозность модернизационных
задач требовала решений
цивилизационного уровня. Однако
"гонка за лидером" включала
демонстрационно-имитационные
механизмы, постепенно сводящие эту
альтернативность на нет.
Приведет ли
движение по вектору катастроф к
модернизации? Чтобы ответить на
этот вопрос, сначала надо ответить
на другой: чем была советская
система, в чем ее исторический
смысл? Была ли она специфическим
путем модернизации отстающего
"на эшелон" общества или
цивилизационной альтернативой
западному ("марксову")
капитализму? Никакие частные
истолкования кризиса и
последовавшего за ним краха не
могут заменить ответа на последний
вопрос (в любых его формулировках).
По-моему, в советском феномене,
чередуясь во времени, доминировали
оба эти начала. Как наследник
старорусского космоса, советская
система, несомненно, такой
альтернативой была. Сама
грандиозность модернизационных
задач требовала решений
цивилизационного уровня. Однако
"гонка за лидером" включала
демонстрационно-имитационные
механизмы, постепенно сводящие эту
альтернативность на нет.
![]() В этом смысле
окончательная смена парадигмы
включения России в мир и есть
катастрофа советской цивилизации -
и эта смена парадигмы лишь
началась. Модернизация общества
идет через замещение механизмов,
альтернативных мировым,
механизмами (или процессами)
"естественноисторическими".
В этом смысле
окончательная смена парадигмы
включения России в мир и есть
катастрофа советской цивилизации -
и эта смена парадигмы лишь
началась. Модернизация общества
идет через замещение механизмов,
альтернативных мировым,
механизмами (или процессами)
"естественноисторическими".
![]() Это не плохо и не
хорошо.
Это не плохо и не
хорошо.
![]() Нам в этом жить.
Нам в этом жить.
![]() Лучше - с
открытыми глазами.
Лучше - с
открытыми глазами.
В начало
страницы
© А. Фадин, 1995
Иное. Хрестоматия
нового российского самосознания.
А. Фадин. Модернизация через
катастрофу? (Не более чем взгляд...)
http://old.russ.ru/antolog/inoe/fadin.htm/fadin.htm