Б.
Капустин
Либеральная идея и Россия
(Пролегомены к концепции
современного российского
либерализма)
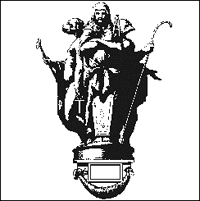
![]() 1. Координаты
методологии
1. Координаты
методологии
![]() Серьезный, т. е.
политически значимый, разговор об
идее и о потребности общества в
идее исходит из трех
принципиальных посылок: а) идея
способна обладать
"конструктивистской" функцией
в отношении действительности; б) у
идеи должен быть носитель,
социальный субъект, деятельность
которого, ориентированная на идею,
необходима обществу для того, чтобы
оно могло разрешать свои
противоречия или
"процессировать" их, не
разрушая себя; в) рассматриваемая
идея может быть операциональна в
отношении данного общества в
своеобразии его
социально-экономических и
культурно-исторических
обстоятельств. Каждая из этих
посылок связана с интенсивными
логико-методологическими и
содержательно-историческими
дискуссиями как общего, так и
частного порядка, имея в виду под
последними спор о соотносимости
либерализма как идеи и России. В
данном эссе нет возможности
анализировать эту полемику, но я
вынужден хотя бы схематически
заявить мое отношение к указанным
посылкам, формирующее ту систему
координат, в которую укладываются
последующие рассуждения. Говоря о
"конструктивистской" функции
идеи, я не имею в виду ничего
похожего на понимание идей как
"субстанции истории". Во
всяком случае речь не идет о
превращении продуктов мышления
идеологов в движущие силы
деятельности социальных групп,
делающих историю. В этом смысле
либеральная идея столь же
бессильна создать
либерально-демократи-ческое
общество, как марксизм-ленинизм не
мог создать общество
тоталитарно-коммунистическое.
Серьезный, т. е.
политически значимый, разговор об
идее и о потребности общества в
идее исходит из трех
принципиальных посылок: а) идея
способна обладать
"конструктивистской" функцией
в отношении действительности; б) у
идеи должен быть носитель,
социальный субъект, деятельность
которого, ориентированная на идею,
необходима обществу для того, чтобы
оно могло разрешать свои
противоречия или
"процессировать" их, не
разрушая себя; в) рассматриваемая
идея может быть операциональна в
отношении данного общества в
своеобразии его
социально-экономических и
культурно-исторических
обстоятельств. Каждая из этих
посылок связана с интенсивными
логико-методологическими и
содержательно-историческими
дискуссиями как общего, так и
частного порядка, имея в виду под
последними спор о соотносимости
либерализма как идеи и России. В
данном эссе нет возможности
анализировать эту полемику, но я
вынужден хотя бы схематически
заявить мое отношение к указанным
посылкам, формирующее ту систему
координат, в которую укладываются
последующие рассуждения. Говоря о
"конструктивистской" функции
идеи, я не имею в виду ничего
похожего на понимание идей как
"субстанции истории". Во
всяком случае речь не идет о
превращении продуктов мышления
идеологов в движущие силы
деятельности социальных групп,
делающих историю. В этом смысле
либеральная идея столь же
бессильна создать
либерально-демократи-ческое
общество, как марксизм-ленинизм не
мог создать общество
тоталитарно-коммунистическое.
![]() "Конструктивистская"
функция идеи проявляется иначе. В
обществе может возникнуть
конфликт, не поддающийся
разрешению и регулированию при
сохранении его участниками прежних
своих социально-культурных
определений. "Конструктивизм"
потребной в таком случае обществу
новой идеи заключается "лишь"
в том, чтобы помочь сторонам
конфликта найти те новые
определения для себя, увидеть
возможность тех новых измерений
своего бытия, благодаря которым они
смогли бы "процессировать" и
институционализировать конфликт, с
тем чтобы добиться безопасности и
реализации своих интересов.
"Конструктивистская"
функция идеи проявляется иначе. В
обществе может возникнуть
конфликт, не поддающийся
разрешению и регулированию при
сохранении его участниками прежних
своих социально-культурных
определений. "Конструктивизм"
потребной в таком случае обществу
новой идеи заключается "лишь"
в том, чтобы помочь сторонам
конфликта найти те новые
определения для себя, увидеть
возможность тех новых измерений
своего бытия, благодаря которым они
смогли бы "процессировать" и
институционализировать конфликт, с
тем чтобы добиться безопасности и
реализации своих интересов.
![]() Идея
функциональна по отношению к
действительности в том смысле, что
позволяет осуществить возникшую в
последней возможность
преобразования. Она конструктивна
в том смысле, что реализация этой
возможности не обеспечивается
имманентной логикой
социально-экономических процессов
и требует опосредующей роли идеи.
"Конструктивистская" идея как
выражение возможности и проекта
новой социальной целостности, как
взгляд на существующие силы и
интересы с этой точки зрения
"трансцендентна" их наличному
бытию, поскольку, пользуясь фразой
Гегеля, "они остаются во власти
своей непосредственности" (1).
Такая идея не может быть
генерирована самими участниками
конфликта, явиться их
самосознанием. Она возникает как
продукт "духовного сословия",
которое - в той мере, в какой оно
является "духовным", - по
определению способно к
интеллектуальному
трансцендентированию наличного
бытия. В критических ситуациях, о
которых у нас идет речь, главная
функция этого сословия в том и
состоит, чтобы найти проекты
социальной целостности, могущей
быть новой формой взаимопризнания
конфликтующих сил и сообщающей им
новые культурные определения.
Идея
функциональна по отношению к
действительности в том смысле, что
позволяет осуществить возникшую в
последней возможность
преобразования. Она конструктивна
в том смысле, что реализация этой
возможности не обеспечивается
имманентной логикой
социально-экономических процессов
и требует опосредующей роли идеи.
"Конструктивистская" идея как
выражение возможности и проекта
новой социальной целостности, как
взгляд на существующие силы и
интересы с этой точки зрения
"трансцендентна" их наличному
бытию, поскольку, пользуясь фразой
Гегеля, "они остаются во власти
своей непосредственности" (1).
Такая идея не может быть
генерирована самими участниками
конфликта, явиться их
самосознанием. Она возникает как
продукт "духовного сословия",
которое - в той мере, в какой оно
является "духовным", - по
определению способно к
интеллектуальному
трансцендентированию наличного
бытия. В критических ситуациях, о
которых у нас идет речь, главная
функция этого сословия в том и
состоит, чтобы найти проекты
социальной целостности, могущей
быть новой формой взаимопризнания
конфликтующих сил и сообщающей им
новые культурные определения.
![]() Итак,
"конструктивистская" функция
идеи подразумевает ее способность,
во-первых, идентифицировать
центральный для данного общества
конфликт, не поддающийся
"процессированию" без
изменения социокультурных
определений его участников;
во-вторых, представить его обществу
в качестве такового; в-третьих,
обеспечить идеологические формы и
формулы политической мобилизации
сил для осуществления проекта
новой общественной целостности.
Реализация "конструктивистской" функции идеи
невозможна без наличия
"духовного сословия",
способного выступать не только ее
генератором, но и социальным
деятелем. В этом случае оно
является ее непосредственным
носителем и субъектом ее
осуществления.
Итак,
"конструктивистская" функция
идеи подразумевает ее способность,
во-первых, идентифицировать
центральный для данного общества
конфликт, не поддающийся
"процессированию" без
изменения социокультурных
определений его участников;
во-вторых, представить его обществу
в качестве такового; в-третьих,
обеспечить идеологические формы и
формулы политической мобилизации
сил для осуществления проекта
новой общественной целостности.
Реализация "конструктивистской" функции идеи
невозможна без наличия
"духовного сословия",
способного выступать не только ее
генератором, но и социальным
деятелем. В этом случае оно
является ее непосредственным
носителем и субъектом ее
осуществления.
![]() Может ли в России
либерализм выступить в качестве
такой "конструктивистской"
идеи (оставляя пока в стороне
важный вопрос о том, каким он должен
быть, если всерьез претендует на
эту роль)? Это - центральная
проблема настоящего эссе.
Подступая к ней, необходимо
предварительно рассмотреть те
достаточно распространенные ходы
мысли, которые делают ее
исследование в принципе
непродуктивным, независимо от того,
утвердительное или отрицательное
заключение оказывается его итогом.
Может ли в России
либерализм выступить в качестве
такой "конструктивистской"
идеи (оставляя пока в стороне
важный вопрос о том, каким он должен
быть, если всерьез претендует на
эту роль)? Это - центральная
проблема настоящего эссе.
Подступая к ней, необходимо
предварительно рассмотреть те
достаточно распространенные ходы
мысли, которые делают ее
исследование в принципе
непродуктивным, независимо от того,
утвердительное или отрицательное
заключение оказывается его итогом.
![]() 2. Подходы к проблеме:
критика методологии
2. Подходы к проблеме:
критика методологии
![]() Непродуктивным
исследование делает в первую
очередь презумпция того, что
проблема состоит лишь в сопряжении
России и либерализма, причем оба
полагаются, в сущности, известными.
Такой ход мысли необходимо ведет
либо к тавтологии, либо к
прожектерству. Известность
либерализма - отождествление его с
некоторой уже осуществленной
теоретической и практической
моделью - привязывает его к
определенной сумме эмпирических
обстоятельств, ассоциируемых с
реализацией данной модели в
конкретных условиях места и
времени. Сопряжение известного
либерализма с реальностью России
способно дать лишь банальное
заключение об отсутствии в ней всех
или большинства из этих
эмпирических обстоятельств (что бы
под ними ни понималось -
определенная система религиозных
убеждений, "соответствующие"
политические институты, развитой
"средний класс" в "западном
смысле этого понятия" или
что-либо иное).
Непродуктивным
исследование делает в первую
очередь презумпция того, что
проблема состоит лишь в сопряжении
России и либерализма, причем оба
полагаются, в сущности, известными.
Такой ход мысли необходимо ведет
либо к тавтологии, либо к
прожектерству. Известность
либерализма - отождествление его с
некоторой уже осуществленной
теоретической и практической
моделью - привязывает его к
определенной сумме эмпирических
обстоятельств, ассоциируемых с
реализацией данной модели в
конкретных условиях места и
времени. Сопряжение известного
либерализма с реальностью России
способно дать лишь банальное
заключение об отсутствии в ней всех
или большинства из этих
эмпирических обстоятельств (что бы
под ними ни понималось -
определенная система религиозных
убеждений, "соответствующие"
политические институты, развитой
"средний класс" в "западном
смысле этого понятия" или
что-либо иное).
![]() На таком
основании возможны два
идеологически противоположных, но
логически идентичных вывода.
Первый: Россия обладает таким
социально-экономическим и
политико-культурным генотипом,
естествен-но проявляющимся и
сейчас, который делает ее
принципиально чуждой либерализму в
целом, либерально-демократической
культуре в частности и в
особенности (2). Это и есть
тавтология: Россия чужда
либерализму, потому что Россия по
строю своего духа и плоти не
либеральна.
На таком
основании возможны два
идеологически противоположных, но
логически идентичных вывода.
Первый: Россия обладает таким
социально-экономическим и
политико-культурным генотипом,
естествен-но проявляющимся и
сейчас, который делает ее
принципиально чуждой либерализму в
целом, либерально-демократической
культуре в частности и в
особенности (2). Это и есть
тавтология: Россия чужда
либерализму, потому что Россия по
строю своего духа и плоти не
либеральна.
![]() Второй: если
Россия все же может (и "должна")
стать либеральной, то в ее
социальной и культурной ткани
необходимо воспроизвести те
эмпирические обстоятельства,
которые считаются (данным
теоретиком) решающими для
возникновения модели известного
либерализма. Такой подход -
имплицитно и эксплицитно -
определял идеологию российских
реформ после 1991 года: сформировать
("средний") класс
собственников посредством
ваучеризации и других форм
приватизации, проимитировать
"соответствующие"
политико-государственные
институты (вспомним
конституционные споры о
применимости в России
американской, французской и других
моделей), создать
саморегулирующуюся экономику
посредством (возможно более
полного) ухода из нее государства...
Второй: если
Россия все же может (и "должна")
стать либеральной, то в ее
социальной и культурной ткани
необходимо воспроизвести те
эмпирические обстоятельства,
которые считаются (данным
теоретиком) решающими для
возникновения модели известного
либерализма. Такой подход -
имплицитно и эксплицитно -
определял идеологию российских
реформ после 1991 года: сформировать
("средний") класс
собственников посредством
ваучеризации и других форм
приватизации, проимитировать
"соответствующие"
политико-государственные
институты (вспомним
конституционные споры о
применимости в России
американской, французской и других
моделей), создать
саморегулирующуюся экономику
посредством (возможно более
полного) ухода из нее государства...
![]() Парадокс такого
подхода в том, что отсутствие в
России искомых эмпирических
обстоятельств делало невозможным
указать какой-либо социальный
субъект желаемых преобразований.
Уповать пришлось опять же на
государство, что является просто
эвфемизмом бюрократии и связанных
с ней клик. Причем ей - против всех
свидетельств исторического и
теоретического опыта последних
двух веков - пришлось приписать
способность не иметь своего
особого частного интереса, ибо
иначе становилось совсем
непонятным, с какой стати ей лишать
саму себя привилегированного
общественного положения, создавая
"ровное" конкурентное
политическое и экономическое
пространство. Как известно, ту же
ошибку с бюрократией, на сей раз -
коммунистической, совершили в свое
время марксистские революционеры,
понадеявшись на превращение
политических функций государства в
"простые административные" в
ходе успешного развития
государства рабочих и крестьян (3).
Вернее, такое превращение как раз
произошло, но оно и явилось
конкретным способом реализации
частного интереса бюрократии и ее
господства в условиях
отечественного тоталитаризма.
Такие упования на методы переделки
социальной ткани и силы, якобы
готовые этим заняться, есть то, что
выше было названо прожектерством.
Результатом практического
воплощения его стало, как начали
отмечать и демократически
настроенные наблюдатели, не просто
сращивание мафии с
коррумпированным чиновничеством, а
именно "строительство
параллельного преступного
государства" (4). Единственным
приемом уйти от прожектерской
версии воспроизводства
эмпирических условий
осуществления модели известного
либерализма в России - при
сохранении убеждения в
необходимости такого
воспроизводства - является полагание
их способности к саморазвитию
вне зависимости от исторического
контекста. Но поскольку объектом
анализа выступает российский
контекст, в котором саморазвитие
этих условий должно обнаружить
свой преобразовательный потенциал,
то он - еще один парадокс -
объявляется чуть ли не более
благоприятным для такого
саморазвития, чем западный.
Парадокс такого
подхода в том, что отсутствие в
России искомых эмпирических
обстоятельств делало невозможным
указать какой-либо социальный
субъект желаемых преобразований.
Уповать пришлось опять же на
государство, что является просто
эвфемизмом бюрократии и связанных
с ней клик. Причем ей - против всех
свидетельств исторического и
теоретического опыта последних
двух веков - пришлось приписать
способность не иметь своего
особого частного интереса, ибо
иначе становилось совсем
непонятным, с какой стати ей лишать
саму себя привилегированного
общественного положения, создавая
"ровное" конкурентное
политическое и экономическое
пространство. Как известно, ту же
ошибку с бюрократией, на сей раз -
коммунистической, совершили в свое
время марксистские революционеры,
понадеявшись на превращение
политических функций государства в
"простые административные" в
ходе успешного развития
государства рабочих и крестьян (3).
Вернее, такое превращение как раз
произошло, но оно и явилось
конкретным способом реализации
частного интереса бюрократии и ее
господства в условиях
отечественного тоталитаризма.
Такие упования на методы переделки
социальной ткани и силы, якобы
готовые этим заняться, есть то, что
выше было названо прожектерством.
Результатом практического
воплощения его стало, как начали
отмечать и демократически
настроенные наблюдатели, не просто
сращивание мафии с
коррумпированным чиновничеством, а
именно "строительство
параллельного преступного
государства" (4). Единственным
приемом уйти от прожектерской
версии воспроизводства
эмпирических условий
осуществления модели известного
либерализма в России - при
сохранении убеждения в
необходимости такого
воспроизводства - является полагание
их способности к саморазвитию
вне зависимости от исторического
контекста. Но поскольку объектом
анализа выступает российский
контекст, в котором саморазвитие
этих условий должно обнаружить
свой преобразовательный потенциал,
то он - еще один парадокс -
объявляется чуть ли не более
благоприятным для такого
саморазвития, чем западный.
![]() В этой логике
происходит утверждение, будто
"во многих отношениях российская
экономика сейчас либеральнее, чем
западная. Именно тотальная
неэффективность государственной
власти создает беспрецедентные по
меркам ХХ века возможности для
утверждения либеральных ценностей
и институтов". В том же ряду
находятся суждения о спонтанной
выработке "элементов этики
честного бизнеса", о
"поразительном размахе и
энергии" "процесса спонтанной
ценностной и институциональной
перестройки" российского
общества, о "высокой степени
толерантности к неравенству в
доходах, проявляемой сейчас
общественным сознанием", о
благотворной слабости у нас
"государства благосостояния",
которое на Западе замутило и
исказило образ правильного и
известного либерализма, и т.п. (5).
В этой логике
происходит утверждение, будто
"во многих отношениях российская
экономика сейчас либеральнее, чем
западная. Именно тотальная
неэффективность государственной
власти создает беспрецедентные по
меркам ХХ века возможности для
утверждения либеральных ценностей
и институтов". В том же ряду
находятся суждения о спонтанной
выработке "элементов этики
честного бизнеса", о
"поразительном размахе и
энергии" "процесса спонтанной
ценностной и институциональной
перестройки" российского
общества, о "высокой степени
толерантности к неравенству в
доходах, проявляемой сейчас
общественным сознанием", о
благотворной слабости у нас
"государства благосостояния",
которое на Западе замутило и
исказило образ правильного и
известного либерализма, и т.п. (5).
![]() Главная проблема
с таким подходом даже не в том, что
многие суждения, образующие его
"несущую конструкцию", не
поддаются эмпирической
верификации или погружены в не
выявленную его автором
интерпретационную
двусмысленность, не в том, что они
построены на
"контрфактуальности" по
отношению к западному опыту и/или
его избирательном препарировании (6).
Главная проблема в том, что
описываемые явления (даже если они
имеют место в действительности)
изображаются своего рода
первичными "фактами"
(наподобие позитивистского
понимания "фактов"
естественных наук), сертификатом
первичности которых выступает
характеристика их как
"спонтанных". Тем самым
устраняются не только требование и
процедура их социологического и
исторического объяснения, но и сама
возможность рассмотрения их именно
как "фактов" общественной
жизни, т.е. в качестве продуктов
определенной культуры и истории.
Такой подход полностью исключает
возможность анализа того вопроса,
который был в центре внимания либеральной
мысли периода образования
экономических и политических
структур либерального типа на
Западе и который Б. Мандевиль
передал классически простой
формулировкой: как "сделать
людей полезными друг другу" (7).
Главная проблема
с таким подходом даже не в том, что
многие суждения, образующие его
"несущую конструкцию", не
поддаются эмпирической
верификации или погружены в не
выявленную его автором
интерпретационную
двусмысленность, не в том, что они
построены на
"контрфактуальности" по
отношению к западному опыту и/или
его избирательном препарировании (6).
Главная проблема в том, что
описываемые явления (даже если они
имеют место в действительности)
изображаются своего рода
первичными "фактами"
(наподобие позитивистского
понимания "фактов"
естественных наук), сертификатом
первичности которых выступает
характеристика их как
"спонтанных". Тем самым
устраняются не только требование и
процедура их социологического и
исторического объяснения, но и сама
возможность рассмотрения их именно
как "фактов" общественной
жизни, т.е. в качестве продуктов
определенной культуры и истории.
Такой подход полностью исключает
возможность анализа того вопроса,
который был в центре внимания либеральной
мысли периода образования
экономических и политических
структур либерального типа на
Западе и который Б. Мандевиль
передал классически простой
формулировкой: как "сделать
людей полезными друг другу" (7).
![]() 3. "Проблема Гоббса"
3. "Проблема Гоббса"
![]() Ничего
естественного и спонтанного в
принятии частным эгоизмом (если он
берется как "исходная
данность" мотивации человека)
этой формы взаимной полезности нет.
Если рационально то, что позволяет
оптимизировать средства в
отношении достижения предмета моих
"аппетитов", то вполне
рациональным может оказаться не
обмен услугами, а овладение
предметом вожделений посредством
насилия, обмана и других
аморальных, но оптимальных в данной
ситуации средств. Из примата в
структуре мотивации человека
устремленности к собственной
пользе не выводится
непосредственно ни система морали,
ни та система всеобщей полезности,
внутри которой только и может
действовать "невидимая рука"
рынка, описанная Смитом.
Ничего
естественного и спонтанного в
принятии частным эгоизмом (если он
берется как "исходная
данность" мотивации человека)
этой формы взаимной полезности нет.
Если рационально то, что позволяет
оптимизировать средства в
отношении достижения предмета моих
"аппетитов", то вполне
рациональным может оказаться не
обмен услугами, а овладение
предметом вожделений посредством
насилия, обмана и других
аморальных, но оптимальных в данной
ситуации средств. Из примата в
структуре мотивации человека
устремленности к собственной
пользе не выводится
непосредственно ни система морали,
ни та система всеобщей полезности,
внутри которой только и может
действовать "невидимая рука"
рынка, описанная Смитом.
![]() Это и есть та
великая проблема, которую с
чрезвычайной интеллектуальной
выразительностью передал Т.Гоббс, -
проблема перевода
(канализирования, сублимации)
частного эгоизма вообще в то его особенное
проявление, которое можно назвать в
самом широком смысле
"экономическим интересом".
Если это удается, то экономический
интерес становится основой
социально упорядоченной формы
обменно-предпринимательской
деятельности и современной
рыночной экономики в целом. "Хотя
количество полезных благ в этой
жизни, - писал Гоббс, - можно
увеличить посредством взаимных
услуг, но в гораздо большей
степени это достигается благодаря
господству над другими, чем
благодаря сообществу с ними;
поэтому вряд ли кто-либо
сомневается в том, что, если бы не
страх, люди от рождения больше
стремились бы к господству, чем к
сообществу. Итак, следует признать,
что происхождение многочисленных и
продолжительных человеческих
сообществ связано... с их взаимным
страхом" (8) (выделено
мной. - Б.К.). Итак, по Гоббсу,
всеобщий и взаимный страх, а не
смитовская "склонность к
торговле, к обмену одного предмета
на другой" является движущей
силой, создающей в конечном счете
систему всеобщей полезности и само
человеческое общежитие. При каких
условиях страх выступает такой
силой?
Это и есть та
великая проблема, которую с
чрезвычайной интеллектуальной
выразительностью передал Т.Гоббс, -
проблема перевода
(канализирования, сублимации)
частного эгоизма вообще в то его особенное
проявление, которое можно назвать в
самом широком смысле
"экономическим интересом".
Если это удается, то экономический
интерес становится основой
социально упорядоченной формы
обменно-предпринимательской
деятельности и современной
рыночной экономики в целом. "Хотя
количество полезных благ в этой
жизни, - писал Гоббс, - можно
увеличить посредством взаимных
услуг, но в гораздо большей
степени это достигается благодаря
господству над другими, чем
благодаря сообществу с ними;
поэтому вряд ли кто-либо
сомневается в том, что, если бы не
страх, люди от рождения больше
стремились бы к господству, чем к
сообществу. Итак, следует признать,
что происхождение многочисленных и
продолжительных человеческих
сообществ связано... с их взаимным
страхом" (8) (выделено
мной. - Б.К.). Итак, по Гоббсу,
всеобщий и взаимный страх, а не
смитовская "склонность к
торговле, к обмену одного предмета
на другой" является движущей
силой, создающей в конечном счете
систему всеобщей полезности и само
человеческое общежитие. При каких
условиях страх выступает такой
силой?
![]() Первое. Страх
должен быть не просто всеобщим. Он
должен иметь реальное
социологическое выражение в равенстве
в страхе. Равенство по некоторому
основанию (морального достоинства,
стремления к счастью и т.д.) -
необходимое
концептуально-методологическое
условие любой либеральной теории.
Поскольку для Гоббса индивид
"исходно" оказывается "по ту
сторону"
институционально-ролевой и
нравственной определенности,
единственным остающимся логически
возможным основанием равенства
выступает равный страх. И Гоббс
пишет: "Равными являются те, кто в
состоянии нанести друг другу
одинаковый ущерб во взаимной
борьбе. А кто может причинить
другим наибольшее зло, т.е. убить их,
тот может быть равным им в любой
борьбе. Итак, все люди от природы
равны друг другу, наблюдающееся же
ныне неравенство введено
гражданскими законами" (9).
Возможность убить,
"отменяющая" с точки зрения
значения для становления
общественного порядка любые
физические и интеллектуальные
различия между индивидами, есть
решающий фактор уравнивания,
поскольку речь идет об индивидах как
таковых. Однако атомизация
общества никогда не бывает ни столь
законченной, ни столь
всеохватывающей, чтобы уничтожить
все виды социальных группировок.
Напротив, обычно она предполагает
взаимодействие атомизированной
массы, с одной стороны, и некоторых
социальных формаций - с другой.
Возможность вторых доминировать
над первой прямо пропорциональна
степени ее атомизации и степени
интегрированности господствующих
групп (оставляя в стороне вопрос о
том, что сами условия господства
над атомизированной массой
усиливают или создают
культурно-регрессивный характер
форм интеграции элит вплоть до
типологического сближения их с
"кланом", "мафией" и т.п.).
Первое. Страх
должен быть не просто всеобщим. Он
должен иметь реальное
социологическое выражение в равенстве
в страхе. Равенство по некоторому
основанию (морального достоинства,
стремления к счастью и т.д.) -
необходимое
концептуально-методологическое
условие любой либеральной теории.
Поскольку для Гоббса индивид
"исходно" оказывается "по ту
сторону"
институционально-ролевой и
нравственной определенности,
единственным остающимся логически
возможным основанием равенства
выступает равный страх. И Гоббс
пишет: "Равными являются те, кто в
состоянии нанести друг другу
одинаковый ущерб во взаимной
борьбе. А кто может причинить
другим наибольшее зло, т.е. убить их,
тот может быть равным им в любой
борьбе. Итак, все люди от природы
равны друг другу, наблюдающееся же
ныне неравенство введено
гражданскими законами" (9).
Возможность убить,
"отменяющая" с точки зрения
значения для становления
общественного порядка любые
физические и интеллектуальные
различия между индивидами, есть
решающий фактор уравнивания,
поскольку речь идет об индивидах как
таковых. Однако атомизация
общества никогда не бывает ни столь
законченной, ни столь
всеохватывающей, чтобы уничтожить
все виды социальных группировок.
Напротив, обычно она предполагает
взаимодействие атомизированной
массы, с одной стороны, и некоторых
социальных формаций - с другой.
Возможность вторых доминировать
над первой прямо пропорциональна
степени ее атомизации и степени
интегрированности господствующих
групп (оставляя в стороне вопрос о
том, что сами условия господства
над атомизированной массой
усиливают или создают
культурно-регрессивный характер
форм интеграции элит вплоть до
типологического сближения их с
"кланом", "мафией" и т.п.).
![]() Учитывая эту
реальную структурированность
"атомизированного" общества,
возможность убить и страх не могут
быть равными. Даже если они равны на
уровне господствующих формаций
(волна покушений на лидеров
мафиозных и коммерческих структур
в России свидетельствует о
вероятности такого допущения), то
это, следуя логике Гоббса, может
привести лишь к ограниченному
"общественному договору" в
виде пакта элит, реально
направленному против
атомизированной массы, не
допущенной в "договор" как не
равной остальным его участникам по
представляемой ею опасности. Таким
образом, первое условие Гоббса, во
всяком случае применительно к
России, оказывается под большим
сомнением.
Учитывая эту
реальную структурированность
"атомизированного" общества,
возможность убить и страх не могут
быть равными. Даже если они равны на
уровне господствующих формаций
(волна покушений на лидеров
мафиозных и коммерческих структур
в России свидетельствует о
вероятности такого допущения), то
это, следуя логике Гоббса, может
привести лишь к ограниченному
"общественному договору" в
виде пакта элит, реально
направленному против
атомизированной массы, не
допущенной в "договор" как не
равной остальным его участникам по
представляемой ею опасности. Таким
образом, первое условие Гоббса, во
всяком случае применительно к
России, оказывается под большим
сомнением.
![]() Второе.
Инструментальный анализ
собственных выгод и сопряженных с
ними опасностей позволяет индивиду
- в принципе каждому индивиду -
прийти к постижению универсальных
нравственных законов
("естественных законов"),
делающих возможным общежитие. В том
и особенность этики Гоббса по
сравнению с либеральными
концепциями уже следующего, XVIII
века, что рациональный анализ
реальной (пусть взятой
"идеальнотипически") ситуации
конфликта интересов способен дать
не частные поведенческие максимы,
оптимизирующие действия индивида в
ситуациях данного типа, а
обязательные для исполнения,
независимо от их возможного
столкновения с соображениями
личной выгоды, универсальные
нравственные законы. Только при
таком условии обеспечиваются
необходимость и всеобщность
регуляции поведения людей, при
которых преследующему свои частные
цели индивиду выгодно
"сублимировать" свой эгоизм в
форму всеобщей полезности. Если же
эти законы не универсальны, то
"не нужно думать, что по природе,
т.е. согласно разуму, люди обязаны
выполнять все эти законы при таком
положении вещей, когда они не
исполняются другими" (10).
Второе.
Инструментальный анализ
собственных выгод и сопряженных с
ними опасностей позволяет индивиду
- в принципе каждому индивиду -
прийти к постижению универсальных
нравственных законов
("естественных законов"),
делающих возможным общежитие. В том
и особенность этики Гоббса по
сравнению с либеральными
концепциями уже следующего, XVIII
века, что рациональный анализ
реальной (пусть взятой
"идеальнотипически") ситуации
конфликта интересов способен дать
не частные поведенческие максимы,
оптимизирующие действия индивида в
ситуациях данного типа, а
обязательные для исполнения,
независимо от их возможного
столкновения с соображениями
личной выгоды, универсальные
нравственные законы. Только при
таком условии обеспечиваются
необходимость и всеобщность
регуляции поведения людей, при
которых преследующему свои частные
цели индивиду выгодно
"сублимировать" свой эгоизм в
форму всеобщей полезности. Если же
эти законы не универсальны, то
"не нужно думать, что по природе,
т.е. согласно разуму, люди обязаны
выполнять все эти законы при таком
положении вещей, когда они не
исполняются другими" (10).
![]() Эта способность
инструментального разума, имеющего
частную выгоду своей целью и
отправным пунктом, феноменальный
мир - своим предметом,
математическую дедукцию - своим
методом обнаруживать
универсальные нравственные законы,
не пережила юмовско-кантовского
переворота в философии.
Политико-моральный смысл этого
переворота в том и состоит, что из
частной выгоды и ситуативно
обусловленных способов ее
достижения вывести универсальные
нормы морали невозможно. Либо - по
Юму - мораль будет
"артефактом", не имеющим
рационального обоснования, но
могущим играть свою роль в
упорядочении нашего социального и
психического миров благодаря нашей
приверженности обычаю и традиции,
произведшим этот "артефакт".
Либо - по Канту - "основу
обязательности должно искать не в
природе человека или в тех
обстоятельствах в мире, в какие он
поставлен, но a priori исключительно в
понятиях чистого разума..." (11). Позднейшее разведение
инструментального и нравственного
разума сделало невозможной ту
гоббсовскую онтологическую мораль,
которая одновременно и отвергала
антично-средневековое понимание
"добра" как объективной
сущности, и стремилась
"естественнонаучно" вывести
его из природы человека и
коренящихся в ней интересов и
страстей.
Эта способность
инструментального разума, имеющего
частную выгоду своей целью и
отправным пунктом, феноменальный
мир - своим предметом,
математическую дедукцию - своим
методом обнаруживать
универсальные нравственные законы,
не пережила юмовско-кантовского
переворота в философии.
Политико-моральный смысл этого
переворота в том и состоит, что из
частной выгоды и ситуативно
обусловленных способов ее
достижения вывести универсальные
нормы морали невозможно. Либо - по
Юму - мораль будет
"артефактом", не имеющим
рационального обоснования, но
могущим играть свою роль в
упорядочении нашего социального и
психического миров благодаря нашей
приверженности обычаю и традиции,
произведшим этот "артефакт".
Либо - по Канту - "основу
обязательности должно искать не в
природе человека или в тех
обстоятельствах в мире, в какие он
поставлен, но a priori исключительно в
понятиях чистого разума..." (11). Позднейшее разведение
инструментального и нравственного
разума сделало невозможной ту
гоббсовскую онтологическую мораль,
которая одновременно и отвергала
антично-средневековое понимание
"добра" как объективной
сущности, и стремилась
"естественнонаучно" вывести
его из природы человека и
коренящихся в ней интересов и
страстей.
![]() Третье.
Исполнение естественных законов,
по Гоббсу, может обеспечить только
политический деспотизм. Согласно
его авторитарно-деспотической
концепции, государство
"безнаказанно может делать все,
что ему угодно", будучи "не
связано гражданскими законами",
обязательными для подданных, и
"ни один человек не обладает
чем-либо против воли того, кто
наделен верховной властью". При
этом государственный контроль над
поведением и умонастроениями людей
предполагает не просто цензуру в
обычном ее понимании (как "законы
против заблуждений"), но именно
право различения добра и зла, в
котором должно быть категорически
отказано отдельным гражданам (12). Эта концепция обстоятельно
рассмотрена в историко-философской
литературе при всем различии
взглядов на нее (и в свете ее - на всю
политическую философию Гоббса) (13). Нас же, учитывая контекст
российских дискуссий о
либерализме, интересует лишь ответ
на вопрос: почему гоббсовская
концепция государства с
необходимостью оказывается
авторитарно-деспотической?
Примечательно, что Гоббс не только
был знаком (странно было бы
предположить обратное) с идеей
"смешанного правления"
(тогдашней
политико-социологической моделью
разделения властей), но специально
анализировал ее и пришел к выводу
не просто о ее
"непрактичности", но (самое
важное!) о том, что, "если бы было
возможно такое государственное
устройство, оно тем не менее ничуть
не способствовало бы увеличению
свободы граждан" (14).
Почему? Говоря кратко, потому что
максимально возможную свободу
индивидов как частных лиц
(калькуляторов собственной выгоды
и оптимизаторов средств) в
состоянии дать именно авторитарное
государство, а никакой иной
свободы, т.е. свободы индивидов в
каком-то ином их качестве, по
Гоббсу, нет и не может быть, ибо
индивид есть только частное
лицо. Разница между Гоббсом и
Локком (и далее - Гегелем,
Токвилем...) заключается не в знании
или незнании институциональных
механизмов разделения властей, не в
признании или непризнании того, что
всякая власть "берет свое
начало от власти народа" (15) и он вправе (путем избрания)
конституировать ее, а в том,
способны или нет члены (подданные)
государства быть народом, когда
власть конституирована,
образовывать то единство в
многообразии, формировать ту общую
волю, в рамках которого и благодаря
которой создаются процедуры
урегулирования конфликтов
эгоизмов и их всех - со всеобщими
условиями существования общежития
как такового. Если такое единство и
такая воля возможны, то
"правительство" есть и должно
быть их отражением (хотя бы в
принципе), и тогда
либерально-демократическое
устройство обретает смысл
механизмов такого отражения. Если
нет, то отражать нечего, и тогда
"правительство" получает
смысл не просто "воплощения"
единства и общей воли, но буквально
порождающего и поддерживающего их
начала. Либерально-демократические
механизмы в таком случае не имеют
смысла или приобретают смысл
совсем другой, чем тот, который
предполагает концепция
"отражения" (16).
Третье.
Исполнение естественных законов,
по Гоббсу, может обеспечить только
политический деспотизм. Согласно
его авторитарно-деспотической
концепции, государство
"безнаказанно может делать все,
что ему угодно", будучи "не
связано гражданскими законами",
обязательными для подданных, и
"ни один человек не обладает
чем-либо против воли того, кто
наделен верховной властью". При
этом государственный контроль над
поведением и умонастроениями людей
предполагает не просто цензуру в
обычном ее понимании (как "законы
против заблуждений"), но именно
право различения добра и зла, в
котором должно быть категорически
отказано отдельным гражданам (12). Эта концепция обстоятельно
рассмотрена в историко-философской
литературе при всем различии
взглядов на нее (и в свете ее - на всю
политическую философию Гоббса) (13). Нас же, учитывая контекст
российских дискуссий о
либерализме, интересует лишь ответ
на вопрос: почему гоббсовская
концепция государства с
необходимостью оказывается
авторитарно-деспотической?
Примечательно, что Гоббс не только
был знаком (странно было бы
предположить обратное) с идеей
"смешанного правления"
(тогдашней
политико-социологической моделью
разделения властей), но специально
анализировал ее и пришел к выводу
не просто о ее
"непрактичности", но (самое
важное!) о том, что, "если бы было
возможно такое государственное
устройство, оно тем не менее ничуть
не способствовало бы увеличению
свободы граждан" (14).
Почему? Говоря кратко, потому что
максимально возможную свободу
индивидов как частных лиц
(калькуляторов собственной выгоды
и оптимизаторов средств) в
состоянии дать именно авторитарное
государство, а никакой иной
свободы, т.е. свободы индивидов в
каком-то ином их качестве, по
Гоббсу, нет и не может быть, ибо
индивид есть только частное
лицо. Разница между Гоббсом и
Локком (и далее - Гегелем,
Токвилем...) заключается не в знании
или незнании институциональных
механизмов разделения властей, не в
признании или непризнании того, что
всякая власть "берет свое
начало от власти народа" (15) и он вправе (путем избрания)
конституировать ее, а в том,
способны или нет члены (подданные)
государства быть народом, когда
власть конституирована,
образовывать то единство в
многообразии, формировать ту общую
волю, в рамках которого и благодаря
которой создаются процедуры
урегулирования конфликтов
эгоизмов и их всех - со всеобщими
условиями существования общежития
как такового. Если такое единство и
такая воля возможны, то
"правительство" есть и должно
быть их отражением (хотя бы в
принципе), и тогда
либерально-демократическое
устройство обретает смысл
механизмов такого отражения. Если
нет, то отражать нечего, и тогда
"правительство" получает
смысл не просто "воплощения"
единства и общей воли, но буквально
порождающего и поддерживающего их
начала. Либерально-демократические
механизмы в таком случае не имеют
смысла или приобретают смысл
совсем другой, чем тот, который
предполагает концепция
"отражения" (16).
![]() Исток
гоббсовского авторитаризма вовсе
не в том, что большинство людей,
"желая непосредственной выгоды,
меньше всего способно соблюдать
вышеизложенные законы
(естественные. - Б.К.), хотя бы они
и были известны им" (17).
Этим Гоббс фиксирует лишь то, что
знание должного само по себе не
создает у индивида никакого нового
качества - он остается тем же
эгоистичным частным лицом. Знание
должного как знание способа
стратегического обеспечения
собственного частного интереса
может привести лишь к согласию на
учреждение органа такого
обеспечения. Но, подчеркивает
Гоббс, "для сохранения мира среди
людей требуется не только согласие,
но и единство". Люди же, поскольку
они как частные лица "в высшей
степени тяготятся общественными
делами" и не просто различают
"общее благо" и "частное",
но вообще "почти никогда не
считают за благо то, что не дает
преимущества его владельцу и не
возвышает его владельца над
другими", к такому единству не
способны. Они остаются массой, не
становясь народом, а масса не может
иметь общей воли (18). Вернее, они
становятся народом "на миг" - в
желании иметь обеспечивающий их
стратегические интересы орган, но
не в воле быть таким высшим
органом. Это есть то различие
желания, предмет которого
находится за пределами
досягаемости для наших сил, и воли,
созидающей искомый предмет,
которое сделал Гегель,
противопоставляя гражданина и
частное лицо в их отношении к
государственности и нравственному
строю общества: для последнего
остается только "желать
реализации моральной идеи, но не
стремиться к ней в воле (то, чего
можно желать, чаять, человек не
может совершить сам, он ждет, что
это будет достигнуто без его
содействия)" (19). Исполнение
"естественных законов" при
желании, но без содействия частных
лиц и достигается авторитарной
властью, признаваемой легитимной
именно потому, что она обеспечивает
всеобщие наипервейшие необходимые
условия самого существования
частных лиц и реализации их
интересов. Она обслуживает их,
подавляя малейшую попытку к
политической самодеятельности. Она
обеспечивает частнохозяйственную
свободу, уничтожая свободу
нравственную и политическую.
Исток
гоббсовского авторитаризма вовсе
не в том, что большинство людей,
"желая непосредственной выгоды,
меньше всего способно соблюдать
вышеизложенные законы
(естественные. - Б.К.), хотя бы они
и были известны им" (17).
Этим Гоббс фиксирует лишь то, что
знание должного само по себе не
создает у индивида никакого нового
качества - он остается тем же
эгоистичным частным лицом. Знание
должного как знание способа
стратегического обеспечения
собственного частного интереса
может привести лишь к согласию на
учреждение органа такого
обеспечения. Но, подчеркивает
Гоббс, "для сохранения мира среди
людей требуется не только согласие,
но и единство". Люди же, поскольку
они как частные лица "в высшей
степени тяготятся общественными
делами" и не просто различают
"общее благо" и "частное",
но вообще "почти никогда не
считают за благо то, что не дает
преимущества его владельцу и не
возвышает его владельца над
другими", к такому единству не
способны. Они остаются массой, не
становясь народом, а масса не может
иметь общей воли (18). Вернее, они
становятся народом "на миг" - в
желании иметь обеспечивающий их
стратегические интересы орган, но
не в воле быть таким высшим
органом. Это есть то различие
желания, предмет которого
находится за пределами
досягаемости для наших сил, и воли,
созидающей искомый предмет,
которое сделал Гегель,
противопоставляя гражданина и
частное лицо в их отношении к
государственности и нравственному
строю общества: для последнего
остается только "желать
реализации моральной идеи, но не
стремиться к ней в воле (то, чего
можно желать, чаять, человек не
может совершить сам, он ждет, что
это будет достигнуто без его
содействия)" (19). Исполнение
"естественных законов" при
желании, но без содействия частных
лиц и достигается авторитарной
властью, признаваемой легитимной
именно потому, что она обеспечивает
всеобщие наипервейшие необходимые
условия самого существования
частных лиц и реализации их
интересов. Она обслуживает их,
подавляя малейшую попытку к
политической самодеятельности. Она
обеспечивает частнохозяйственную
свободу, уничтожая свободу
нравственную и политическую.
![]() Гоббс делает
великое открытие. Оно заключается в
том, что частное лицо и частный
интерес для того, чтобы иметь
возможность быть в
действительности (т.е. в условиях
общежития), должны стать либо чем-то
большим, либо чем-то меньшим,
чем просто частное лицо и частный
интерес. Быть просто частным лицом -
значит быть погруженным в
состояние "войны всех против
всех", которое, в сущности, есть
небытие всех, которое невозможно
как социальное бытие. Гоббсовское
частное лицо не может стать
бульшим, чем частное лицо, т.е.
гражданином, который так или иначе
делает общее благо своим интересом
(будучи античным гражданином)
или возводит свой интерес к общему,
продуцируемому
политико-нравственным дискурсом
членов данного общества (гражданин
Нового времени). Невозможность
стать гражданином "задана" уже
тем, что равенство устанавливается
как равенство в страхе, а не в
свободе (на чем стояла античная
гражданская традиция), а также тем,
что "открытие"
"естественных законов" есть
результат гносеологического
индивидуального акта, а не
совместной политической практики,
которая только и способна
производить гражданское измерение
существования человека и групп
людей.
Гоббс делает
великое открытие. Оно заключается в
том, что частное лицо и частный
интерес для того, чтобы иметь
возможность быть в
действительности (т.е. в условиях
общежития), должны стать либо чем-то
большим, либо чем-то меньшим,
чем просто частное лицо и частный
интерес. Быть просто частным лицом -
значит быть погруженным в
состояние "войны всех против
всех", которое, в сущности, есть
небытие всех, которое невозможно
как социальное бытие. Гоббсовское
частное лицо не может стать
бульшим, чем частное лицо, т.е.
гражданином, который так или иначе
делает общее благо своим интересом
(будучи античным гражданином)
или возводит свой интерес к общему,
продуцируемому
политико-нравственным дискурсом
членов данного общества (гражданин
Нового времени). Невозможность
стать гражданином "задана" уже
тем, что равенство устанавливается
как равенство в страхе, а не в
свободе (на чем стояла античная
гражданская традиция), а также тем,
что "открытие"
"естественных законов" есть
результат гносеологического
индивидуального акта, а не
совместной политической практики,
которая только и способна
производить гражданское измерение
существования человека и групп
людей.
![]() Значит, остается
только другой путь - сделать
частное лицо рабом, точнее,
политическим рабом, обладающим
свободой частнохозяйственной
деятельности. И Гоббс делает этот
решающий шаг. Вопреки всей
классической традиции, исходившей
из того, что государство - это дело
только свободных, тогда как удел
раба - быть в сфере частного, он
настаивает на "опровержении
мнения тех, кто считает, что
господин и его рабы не могут
образовать государство".
Аналитически, т.е. с точки зрения
структуры и содержания отношения
подчинения, "гражданин" у
Гоббса совпадает с понятием
"подданный" и тождествен
"рабу". Различия между ними -
только в характере господствующего
лица: юридическое, "фиктивное"
в первом случае и физическое, но
также и юридическое - во втором.
"В том-то и состоит различие
между свободным гражданином и
рабом, - пишет Гоббс, - что свободный
гражданин служит только
государству, а раб - еще и одному из
граждан. Всякая иная свобода
есть освобождение от законов
государства и свойственна только
властителям" (выделено мной. - Б.К.)
(20). В свете сказанного нужно
уяснить приведенное выше и
кажущееся парадоксальным суждение
Гоббса о том, что "смешанное
правление" никак не
способствовало бы увеличению
свободы граждан. Я думаю, следуя
Гоббсу, эту мысль можно
сформулировать и решительнее:
деспотизм обеспечивает бульшую
свободу, чем "смешанное
правление", из-за чего тезис о
том, что "верховная власть не
может быть по праву уничтожена
решением тех людей, соглашением
которых она была установлена" (21), предстает не только
"велением разума", но и
практической целесообразностью.
Значит, остается
только другой путь - сделать
частное лицо рабом, точнее,
политическим рабом, обладающим
свободой частнохозяйственной
деятельности. И Гоббс делает этот
решающий шаг. Вопреки всей
классической традиции, исходившей
из того, что государство - это дело
только свободных, тогда как удел
раба - быть в сфере частного, он
настаивает на "опровержении
мнения тех, кто считает, что
господин и его рабы не могут
образовать государство".
Аналитически, т.е. с точки зрения
структуры и содержания отношения
подчинения, "гражданин" у
Гоббса совпадает с понятием
"подданный" и тождествен
"рабу". Различия между ними -
только в характере господствующего
лица: юридическое, "фиктивное"
в первом случае и физическое, но
также и юридическое - во втором.
"В том-то и состоит различие
между свободным гражданином и
рабом, - пишет Гоббс, - что свободный
гражданин служит только
государству, а раб - еще и одному из
граждан. Всякая иная свобода
есть освобождение от законов
государства и свойственна только
властителям" (выделено мной. - Б.К.)
(20). В свете сказанного нужно
уяснить приведенное выше и
кажущееся парадоксальным суждение
Гоббса о том, что "смешанное
правление" никак не
способствовало бы увеличению
свободы граждан. Я думаю, следуя
Гоббсу, эту мысль можно
сформулировать и решительнее:
деспотизм обеспечивает бульшую
свободу, чем "смешанное
правление", из-за чего тезис о
том, что "верховная власть не
может быть по праву уничтожена
решением тех людей, соглашением
которых она была установлена" (21), предстает не только
"велением разума", но и
практической целесообразностью.
![]() Дело в том, что
частные лица как частные лица
могут искать свободу только как
способ реализации своих выгод, что
подразумевает подчинение им других
людей в качестве средств
достижения выгод. "Когда же
частные граждане, т.е. подданные,
требуют свободы, - пишет Гоббс, - они
подразумевают под этим именем не
свободу, а господство" (22). Свобода частных лиц за
рамками частнохозяйственной
свободы превращает людей в
"рабов рабов" (т.е. именно в
рабов, подчиненных и другим
гражданам, и государству), тогда
как авторитарное государство - во
всяком случае, в идеале, в пределе -
делает всех просто своими рабами.
Оно освобождает от двойного
закабаления, выравнивая и демократизиpуя
степень рабства путем лишения
всех политической свободы.
Дело в том, что
частные лица как частные лица
могут искать свободу только как
способ реализации своих выгод, что
подразумевает подчинение им других
людей в качестве средств
достижения выгод. "Когда же
частные граждане, т.е. подданные,
требуют свободы, - пишет Гоббс, - они
подразумевают под этим именем не
свободу, а господство" (22). Свобода частных лиц за
рамками частнохозяйственной
свободы превращает людей в
"рабов рабов" (т.е. именно в
рабов, подчиненных и другим
гражданам, и государству), тогда
как авторитарное государство - во
всяком случае, в идеале, в пределе -
делает всех просто своими рабами.
Оно освобождает от двойного
закабаления, выравнивая и демократизиpуя
степень рабства путем лишения
всех политической свободы.
![]() Интеллектуальный
опыт Гоббса однозначно
свидетельствует только об одном: ни
теоретически, ни практически
нельзя построить жизнеспособное
общежитие людей, если они
концептуально берутся и в
действительности являются только
частными лицами (23). Указанные
концептуальные трудности Гоббса в
рассмотрении социализации
частного лица (в модальности
"раба") свидетельствуют также
о том, что логика этой социализации
в принципе не дедуцируема из
антропологических посылок о
человеке как субъекте
эгоистических аппетитов, хотя
именно такое понимание его должно
быть отправным пунктом
политико-философской теории
современности. В эту дедукцию
должна вмешаться некоторая
эмпирика, даже общие контуры
которой не были прояснены Гоббсом
(как и почти всеми позднейшими его
критиками эпохи Просвещения). К
рассмотрению контуров такой
эмпирики мы и перейдем сейчас.
Интеллектуальный
опыт Гоббса однозначно
свидетельствует только об одном: ни
теоретически, ни практически
нельзя построить жизнеспособное
общежитие людей, если они
концептуально берутся и в
действительности являются только
частными лицами (23). Указанные
концептуальные трудности Гоббса в
рассмотрении социализации
частного лица (в модальности
"раба") свидетельствуют также
о том, что логика этой социализации
в принципе не дедуцируема из
антропологических посылок о
человеке как субъекте
эгоистических аппетитов, хотя
именно такое понимание его должно
быть отправным пунктом
политико-философской теории
современности. В эту дедукцию
должна вмешаться некоторая
эмпирика, даже общие контуры
которой не были прояснены Гоббсом
(как и почти всеми позднейшими его
критиками эпохи Просвещения). К
рассмотрению контуров такой
эмпирики мы и перейдем сейчас.
![]() 4. Экспериментальность
либерализма
4. Экспериментальность
либерализма
![]() Вмешательство
эмпирики, необходимое для создания
либерально-демократического
порядка (по существу - любого вида
сообщества людей), превращает это в
эксперимент. Его смысл -
направленный поиск (методом проб и
ошибок) политико-государственного
устройства, способного
поддерживать и динамически
воспроизводить те параметры
опытным путем сложившейся
социальной ситуации, благодаря
которым решается центральная
общелиберальная задача -
социализация частного лица и
частного интереса при обеспечении
их максимально возможной и
минимально гарантированной
свободы.
Вмешательство
эмпирики, необходимое для создания
либерально-демократического
порядка (по существу - любого вида
сообщества людей), превращает это в
эксперимент. Его смысл -
направленный поиск (методом проб и
ошибок) политико-государственного
устройства, способного
поддерживать и динамически
воспроизводить те параметры
опытным путем сложившейся
социальной ситуации, благодаря
которым решается центральная
общелиберальная задача -
социализация частного лица и
частного интереса при обеспечении
их максимально возможной и
минимально гарантированной
свободы.
![]() Идея
эксперимента, разумеется, сама по
себе - не ответ на вопрос о том, быть
ли и каким быть либерализму в
данной стране и какой быть данной
стране, если она стремится быть
либеральной. Но эта идея и мужество
следовать ей - те условия, без
которых конструктивный ответ на
поставленные вопросы невозможен. В
том-то и дело, что эксперимент есть
такая связь двух неизвестных -
либерализма и переустраивающегося
общества - в контексте конкретно
исторической ситуации, благодаря
которой (связи) оба они как парные
категории начинают определяться
через устанавливающееся
экспериментально соответствие
друг другу. Не либеральная традиция
сама по себе дает определение
искомого либерализма, не традиция
данной страны сама по себе
определяет то, какой она может быть.
Обе эти традиции, несомненно,
входят как посылки в
экспериментально и практически
выстраиваемый "силлогизм",
заключение которого, содержащее их
лишь в "снятом" виде, призвано
дать ответ, как и в какой
модальности может произойти
сочетание либерализма и данного
общества. Но в любом случае это
будет эксперимент с решением
"проблемы Гоббса".
Идея
эксперимента, разумеется, сама по
себе - не ответ на вопрос о том, быть
ли и каким быть либерализму в
данной стране и какой быть данной
стране, если она стремится быть
либеральной. Но эта идея и мужество
следовать ей - те условия, без
которых конструктивный ответ на
поставленные вопросы невозможен. В
том-то и дело, что эксперимент есть
такая связь двух неизвестных -
либерализма и переустраивающегося
общества - в контексте конкретно
исторической ситуации, благодаря
которой (связи) оба они как парные
категории начинают определяться
через устанавливающееся
экспериментально соответствие
друг другу. Не либеральная традиция
сама по себе дает определение
искомого либерализма, не традиция
данной страны сама по себе
определяет то, какой она может быть.
Обе эти традиции, несомненно,
входят как посылки в
экспериментально и практически
выстраиваемый "силлогизм",
заключение которого, содержащее их
лишь в "снятом" виде, призвано
дать ответ, как и в какой
модальности может произойти
сочетание либерализма и данного
общества. Но в любом случае это
будет эксперимент с решением
"проблемы Гоббса".
![]() Едва ли будет
преувеличением сказать, что каждый
крупный прорыв либерализма,
создававший общество с великой
исторической судьбой и задававший
тему целой эпохе, был
экспериментом, с той или иной
степенью отчетливости
осознававшимся в качестве такового
его ведущими творцами и
участниками.
Едва ли будет
преувеличением сказать, что каждый
крупный прорыв либерализма,
создававший общество с великой
исторической судьбой и задававший
тему целой эпохе, был
экспериментом, с той или иной
степенью отчетливости
осознававшимся в качестве такового
его ведущими творцами и
участниками.
![]() Таким
экспериментом, несомненно, была
английская "славная
революция" и последующее
развитие британской
государственности. Нужно слишком
буквально или слишком
ангажированно по отношению к
антиметафизической полемичности
Э.Берка воспринимать его
толкование "славной
революции" как стремления "сохранить
все, чем мы обладаем как
наследством наших предков" (24) (т.е. как революции против
"революционного
нововводительства" предыдущего
периода), чтобы упустить его
собственную приверженность
экспериментальному методу и
отслеживание им - в тех же
"Размышлениях о революции во
Франции" - использования этого
метода в практике британского
государственно-политического
развития.
Таким
экспериментом, несомненно, была
английская "славная
революция" и последующее
развитие британской
государственности. Нужно слишком
буквально или слишком
ангажированно по отношению к
антиметафизической полемичности
Э.Берка воспринимать его
толкование "славной
революции" как стремления "сохранить
все, чем мы обладаем как
наследством наших предков" (24) (т.е. как революции против
"революционного
нововводительства" предыдущего
периода), чтобы упустить его
собственную приверженность
экспериментальному методу и
отслеживание им - в тех же
"Размышлениях о революции во
Франции" - использования этого
метода в практике британского
государственно-политического
развития.
![]() Что иное, как не
эксперимент - обнаружение, отбор в
пластах национальной культуры и
селективное развитие того, что
"никогда не бывает полностью
новым" и потому подлежит
"усовершенствованию", и того,
что "никогда полностью не
устаревает" и потому должно
быть "сохранено"? Сами эти
формулировки Берка лишаются
какого-либо смысла, если все это
"усовершенствуемое" и
"сохраняемое" не отличается от
того, что должно быть оставлено
позади как не поддающееся
"усовершенствованию" и
"сохранению". Разве не
результатом новаторского
эксперимента стало нахождение
удивительной формулы, соединяющей
то, что традиционно считалось
исключающим друг друга, -
"сохранять и одновременно
реформировать"? Разве чем-либо,
кроме эксперимента (другое дело,
удался он в этой части или нет),
можно решить то противоречие,
которое фиксирует Берк в
современной либеральной политии: с
одной стороны, "святость"
принципа частной собственности,
охрана которой - "первое
изначальное обязательство
гражданского общества", а с
другой - недопустимость
"торгашеского духа" в
законодательстве и овладения
властью "денежными
воротилами" и "буржуа", т.е.
именно того, в чем Берк видит одну
из самых отвратительных черт
революционного режима во Франции? (25)
Что иное, как не
эксперимент - обнаружение, отбор в
пластах национальной культуры и
селективное развитие того, что
"никогда не бывает полностью
новым" и потому подлежит
"усовершенствованию", и того,
что "никогда полностью не
устаревает" и потому должно
быть "сохранено"? Сами эти
формулировки Берка лишаются
какого-либо смысла, если все это
"усовершенствуемое" и
"сохраняемое" не отличается от
того, что должно быть оставлено
позади как не поддающееся
"усовершенствованию" и
"сохранению". Разве не
результатом новаторского
эксперимента стало нахождение
удивительной формулы, соединяющей
то, что традиционно считалось
исключающим друг друга, -
"сохранять и одновременно
реформировать"? Разве чем-либо,
кроме эксперимента (другое дело,
удался он в этой части или нет),
можно решить то противоречие,
которое фиксирует Берк в
современной либеральной политии: с
одной стороны, "святость"
принципа частной собственности,
охрана которой - "первое
изначальное обязательство
гражданского общества", а с
другой - недопустимость
"торгашеского духа" в
законодательстве и овладения
властью "денежными
воротилами" и "буржуа", т.е.
именно того, в чем Берк видит одну
из самых отвратительных черт
революционного режима во Франции? (25)
![]() Интенсивное
осознание экспериментальности
либерального начинания
государственно-политического
обустройства независимой Америки
характерно для ее
"отцов-основателей" (как
убедительно показывает
А.Шлезингер, эта традиция в тех или
иных формах сохраняется в
политической мысли и практике США
вплоть до наших дней (26)).
Против "республиканского
эксперимента" - пороки,
ассоциируемые с природой человека
и являющиеся выражением того
эгоизма "ненасытных
аппетитов", который составляет
смысл "проблемы Гоббса".
Против и весь предыдущий мировой
опыт республиканского устройства,
демонстрирующий невозможность
вырваться из круга, в котором любой
эксперимент свободы неизменно
завершается коррупцией и распадом.
Но из всего этого следует лишь
решимость, по выражению Генри
Адамса, "поспорить с опытом
древности", решимость провести
"эксперимент, к которому по
меньшей мере склоняют чувства,
облагораживающие природу человека.
Увы! Делают ли его невозможным
пороки?" (27). Это -
размышления Дж. Вашингтона.
Попыткой дать практический ответ
на этот вопрос и стала та
новаторская для своей эпохи
разработка принципов
государственного строительства и
социального устройства, которую
осуществили авторы
"Федералиста" и другие творцы
американской республики.
Интенсивное
осознание экспериментальности
либерального начинания
государственно-политического
обустройства независимой Америки
характерно для ее
"отцов-основателей" (как
убедительно показывает
А.Шлезингер, эта традиция в тех или
иных формах сохраняется в
политической мысли и практике США
вплоть до наших дней (26)).
Против "республиканского
эксперимента" - пороки,
ассоциируемые с природой человека
и являющиеся выражением того
эгоизма "ненасытных
аппетитов", который составляет
смысл "проблемы Гоббса".
Против и весь предыдущий мировой
опыт республиканского устройства,
демонстрирующий невозможность
вырваться из круга, в котором любой
эксперимент свободы неизменно
завершается коррупцией и распадом.
Но из всего этого следует лишь
решимость, по выражению Генри
Адамса, "поспорить с опытом
древности", решимость провести
"эксперимент, к которому по
меньшей мере склоняют чувства,
облагораживающие природу человека.
Увы! Делают ли его невозможным
пороки?" (27). Это -
размышления Дж. Вашингтона.
Попыткой дать практический ответ
на этот вопрос и стала та
новаторская для своей эпохи
разработка принципов
государственного строительства и
социального устройства, которую
осуществили авторы
"Федералиста" и другие творцы
американской республики.
![]() Способен ли
российский либерализм к
собственному эксперименту?
Очевидно одно: пытаясь имитировать
то, что упрощенно понимается под
"западной моделью", он ведет
себя не "по-западному".
Российский либерализм должен стать
радикально "западническим",
обретая мужество, во-первых, на свой
эксперимент, во-вторых, на
осознание "проблемы Гоббса" во
всем ее драматизме и сложности.
России сегодня недоступны те
средства, с помощью которых эта
проблема была решена в иных
исторических и культурных
ситуациях. Специфика России - не в
"потусторонности" содержания
ее проблем, с которыми в свое время
сталкивался Запад, а в том, что наша
страна вынуждена идти по самому
острому краю той же, в сущности,
проблематики становления
либерально-демократического строя,
но без страховочных средств и
амортизаторов, которыми
располагали многие общества
Запада. Можно сказать, что Россия
приступила к осуществлению теории
становления этого строя в ее чистом
и предельном виде, освобожденном от
тех "сопутствующих
обстоятельств", которые
скрывались на Западе под именами
локковского "закона пpиpоды",
смитовских "нpавственных
чувств", мандевилевского
"изобретения" "начатков
морали" или "общей воли"
Руссо. В том и суть дела, и
необходимость эксперимента, что в
России обнаружилось отсутствие
всех или почти всех условий,
которые позволяли на Западе в свое
время канализировать
освобожденное стремление к
максимизации частной выгоды в
экономический интерес, создающий
систему всеобщей полезности,
причем сделать это не
(преимущественно)
авторитарно-деспотическими
методами.
Способен ли
российский либерализм к
собственному эксперименту?
Очевидно одно: пытаясь имитировать
то, что упрощенно понимается под
"западной моделью", он ведет
себя не "по-западному".
Российский либерализм должен стать
радикально "западническим",
обретая мужество, во-первых, на свой
эксперимент, во-вторых, на
осознание "проблемы Гоббса" во
всем ее драматизме и сложности.
России сегодня недоступны те
средства, с помощью которых эта
проблема была решена в иных
исторических и культурных
ситуациях. Специфика России - не в
"потусторонности" содержания
ее проблем, с которыми в свое время
сталкивался Запад, а в том, что наша
страна вынуждена идти по самому
острому краю той же, в сущности,
проблематики становления
либерально-демократического строя,
но без страховочных средств и
амортизаторов, которыми
располагали многие общества
Запада. Можно сказать, что Россия
приступила к осуществлению теории
становления этого строя в ее чистом
и предельном виде, освобожденном от
тех "сопутствующих
обстоятельств", которые
скрывались на Западе под именами
локковского "закона пpиpоды",
смитовских "нpавственных
чувств", мандевилевского
"изобретения" "начатков
морали" или "общей воли"
Руссо. В том и суть дела, и
необходимость эксперимента, что в
России обнаружилось отсутствие
всех или почти всех условий,
которые позволяли на Западе в свое
время канализировать
освобожденное стремление к
максимизации частной выгоды в
экономический интерес, создающий
систему всеобщей полезности,
причем сделать это не
(преимущественно)
авторитарно-деспотическими
методами.
![]() Данную проблему
в более строгих понятиях
политической науки можно выразить,
используя (с определенными
модификациями) известную
иерархическую схему уровней
принятия решений Д.Истона (28). Такими уровнями являются: а)
решения относительно того, кто
"мы" есть (определение
культурно-этической идентичности,
гражданства, принадлежности к
государству в его территориальных
и социально-культурных границах); б)
решения относительно правил,
процедур и прав (определение
конституции и институциональной
структуры "режима"); в) решения
относительно распределения
ресурсов (прежде всего власти и
экономических благ). Эти уровни
преимущественно "задействуют"
соответствующие "качества"
человека: а) добродетели и честь, б)
разум, в) интерес.
Данную проблему
в более строгих понятиях
политической науки можно выразить,
используя (с определенными
модификациями) известную
иерархическую схему уровней
принятия решений Д.Истона (28). Такими уровнями являются: а)
решения относительно того, кто
"мы" есть (определение
культурно-этической идентичности,
гражданства, принадлежности к
государству в его территориальных
и социально-культурных границах); б)
решения относительно правил,
процедур и прав (определение
конституции и институциональной
структуры "режима"); в) решения
относительно распределения
ресурсов (прежде всего власти и
экономических благ). Эти уровни
преимущественно "задействуют"
соответствующие "качества"
человека: а) добродетели и честь, б)
разум, в) интерес.
![]() Обычно данные
уровни соединены однонаправленной
и каузальной связью от "а" к
"в", причем они имеют различные
исторические ритмы развития - от
столетий на первом уровне до годов
и даже месяцев на третьем. Эта
разность ритмов вместе с указанным
видом каузальности обусловливают
то, что - опять же обычно - игра
интересов, влияющая на схемы
распределения ресурсов,
укладывается в матрицу
конституционного порядка,
выступающего для нее как данность,
а последний опирается на
устойчивость культурных
идентичностей и этических норм.
Обычно данные
уровни соединены однонаправленной
и каузальной связью от "а" к
"в", причем они имеют различные
исторические ритмы развития - от
столетий на первом уровне до годов
и даже месяцев на третьем. Эта
разность ритмов вместе с указанным
видом каузальности обусловливают
то, что - опять же обычно - игра
интересов, влияющая на схемы
распределения ресурсов,
укладывается в матрицу
конституционного порядка,
выступающего для нее как данность,
а последний опирается на
устойчивость культурных
идентичностей и этических норм.
![]() В свете этого
можно сказать, что проблема России
(повторяется ли она еще в каком-либо
посттоталитарном обществе?)
заключается в разрушении
устойчивых форм на всех трех
уровнях одновременно и
соответственно в разрушении
обычной схемы связи между ними (в
общем плане блестящий анализ
данной проблемы был предложен
Клаусом Оффе (29)). Как можно
строить конституционный порядок,
"по определению" обязательный
для соблюдения безотносительно к
тому, как это влияет на достижение
частной выгоды, если заранее
известно, каким будет такое
влияние, и если частные интересы
могут блокировать установление или
обязательность соблюдения
конституционного порядка? В то же
время как строить конституционный
порядок, если не ясно, кто такие
"мы" и что такое "Россия",
если опять же известно, какое
влияние на те или иные интересы
окажет то или иное определение
"нас" и "России"?
В свете этого
можно сказать, что проблема России
(повторяется ли она еще в каком-либо
посттоталитарном обществе?)
заключается в разрушении
устойчивых форм на всех трех
уровнях одновременно и
соответственно в разрушении
обычной схемы связи между ними (в
общем плане блестящий анализ
данной проблемы был предложен
Клаусом Оффе (29)). Как можно
строить конституционный порядок,
"по определению" обязательный
для соблюдения безотносительно к
тому, как это влияет на достижение
частной выгоды, если заранее
известно, каким будет такое
влияние, и если частные интересы
могут блокировать установление или
обязательность соблюдения
конституционного порядка? В то же
время как строить конституционный
порядок, если не ясно, кто такие
"мы" и что такое "Россия",
если опять же известно, какое
влияние на те или иные интересы
окажет то или иное определение
"нас" и "России"?
![]() Это и есть та
экстремальная ситуация, когда
частный эгоистический интерес
выступает единственным реальным
"исходным фактом" для любого
плана действий, когда все
регулирующие и направляющие его
социальные связи и
морально-политические
обязательства в решающей мере (т.е.
мере, значимой для общественной
самоорганизации) как бы
"приостановлены" и
"свернуты", когда нужно всерьез
воспринять то, что давно утверждал
экономический либерализм, а именно:
"любая группа людей всецело
руководствуется своим пониманием
того, что есть ее интерес в
самом узком и самом эгоистическом
смысле слова "интерес", и
никогда - каким-либо учетом
интереса народа" (30). Но
при этом нельзя, как делал тот
же экономический либерализм, легко
и не решая "проблему Гоббса",
тут же утверждать, что "общество
держится вместе только теми
жертвами удовольствий, делать
которые людей можно побудить:
добиться этих жертв - большая
трудность и великая задача
правительства" (31).
Это и есть та
экстремальная ситуация, когда
частный эгоистический интерес
выступает единственным реальным
"исходным фактом" для любого
плана действий, когда все
регулирующие и направляющие его
социальные связи и
морально-политические
обязательства в решающей мере (т.е.
мере, значимой для общественной
самоорганизации) как бы
"приостановлены" и
"свернуты", когда нужно всерьез
воспринять то, что давно утверждал
экономический либерализм, а именно:
"любая группа людей всецело
руководствуется своим пониманием
того, что есть ее интерес в
самом узком и самом эгоистическом
смысле слова "интерес", и
никогда - каким-либо учетом
интереса народа" (30). Но
при этом нельзя, как делал тот
же экономический либерализм, легко
и не решая "проблему Гоббса",
тут же утверждать, что "общество
держится вместе только теми
жертвами удовольствий, делать
которые людей можно побудить:
добиться этих жертв - большая
трудность и великая задача
правительства" (31).
![]() Для России все
это означает вынужденность
осуществлять западную либеральную
теорию настолько серьезно, как
этого не делало, вероятно, ни одно
западное общество. В этом - главная
характеристика предстоящего
России эксперимента, в большой мере
даже не осознанного в качестве
такового отечественными
реформаторами.
Для России все
это означает вынужденность
осуществлять западную либеральную
теорию настолько серьезно, как
этого не делало, вероятно, ни одно
западное общество. В этом - главная
характеристика предстоящего
России эксперимента, в большой мере
даже не осознанного в качестве
такового отечественными
реформаторами.
![]() 5. Российский либерализм -
5. Российский либерализм -
![]() этап
"знания" Истины
этап
"знания" Истины
![]() Российская
антитоталитарная революция, если к
произошедшему и происходящему у
нас приложимо данное понятие,
пронизана парадоксами. Один из них,
лежащий на поверхности,
заключается в следующем: явление,
по масштабам своего исторического
значения сопоставимое разве что с
Великой Французской революцией,
сопровождалось удивительным
интеллектуальным убожеством,
отсутствием хоть сколько-нибудь
оригинальных и политически
эффективных идей.
Российская
антитоталитарная революция, если к
произошедшему и происходящему у
нас приложимо данное понятие,
пронизана парадоксами. Один из них,
лежащий на поверхности,
заключается в следующем: явление,
по масштабам своего исторического
значения сопоставимое разве что с
Великой Французской революцией,
сопровождалось удивительным
интеллектуальным убожеством,
отсутствием хоть сколько-нибудь
оригинальных и политически
эффективных идей.
![]() Объективно
либеральная направленность и
настроенность массовых действий,
опрокинувших советский коммунизм,
которые развертывались под
классическими лозунгами
европейских революций прошлых
веков - свободы и прав человека,
равенства и народного суверенитета
(что само по себе как феномен конца
ХХ века нуждается в глубоком
теоретическом объяснении),
получили жалкое идеологическое
выражение со стороны отечественных
"властителей дум". По большому
счету сам характер
антитоталитарной революции должен
был бы сделать неуместными
дальнейшие разговоры о чуждости
российского менталитета
либеральной идее. Однако
отечественная интеллигенция и
прежде всего ее "властители
дум" оказались вопиюще
неадекватными в политическом и
идейном отношениях развернувшимся
процессам. И это есть один из важных
факторов того, что широкая
либеральная волна опрокинулась и
разбилась, не успев дать, вынести на
себе институциональных,
конституционно-правовых,
нравственных основ нового
общества. Теперь пишущая и маячащая
на экранах интеллигенция пытается
скрыть свою историческую вину
рассуждениями об
"объективности" и даже
благотворности нынешней
деидеологизации и деполитизации
огромного большинства россиян. Это
- интеллигенция, выдавшая сама себе
"белый билет" в отношении
своей прямой профессиональной, не
говоря уж о гражданской,
обязанности - теоретического
познания того не решенного
антитоталитарной революцией
противоречия, которое надорвало
либеральную волну, и выработки
идейных средств, способных служить
политической мобилизации во имя
его решения. Не идеология не нужна
России - функциональная
потребность в ней с точки зрения
обеспечения политически
эффективного действия велика, как
никогда. России не нужна
интеллигенция, не способная
удовлетворить эту потребность и
прячущая свое бессилие за
словесами о неготовности народа к
либерально-демократическим
порядкам и холуйскими призывами
нового авторитаризма.
Объективно
либеральная направленность и
настроенность массовых действий,
опрокинувших советский коммунизм,
которые развертывались под
классическими лозунгами
европейских революций прошлых
веков - свободы и прав человека,
равенства и народного суверенитета
(что само по себе как феномен конца
ХХ века нуждается в глубоком
теоретическом объяснении),
получили жалкое идеологическое
выражение со стороны отечественных
"властителей дум". По большому
счету сам характер
антитоталитарной революции должен
был бы сделать неуместными
дальнейшие разговоры о чуждости
российского менталитета
либеральной идее. Однако
отечественная интеллигенция и
прежде всего ее "властители
дум" оказались вопиюще
неадекватными в политическом и
идейном отношениях развернувшимся
процессам. И это есть один из важных
факторов того, что широкая
либеральная волна опрокинулась и
разбилась, не успев дать, вынести на
себе институциональных,
конституционно-правовых,
нравственных основ нового
общества. Теперь пишущая и маячащая
на экранах интеллигенция пытается
скрыть свою историческую вину
рассуждениями об
"объективности" и даже
благотворности нынешней
деидеологизации и деполитизации
огромного большинства россиян. Это
- интеллигенция, выдавшая сама себе
"белый билет" в отношении
своей прямой профессиональной, не
говоря уж о гражданской,
обязанности - теоретического
познания того не решенного
антитоталитарной революцией
противоречия, которое надорвало
либеральную волну, и выработки
идейных средств, способных служить
политической мобилизации во имя
его решения. Не идеология не нужна
России - функциональная
потребность в ней с точки зрения
обеспечения политически
эффективного действия велика, как
никогда. России не нужна
интеллигенция, не способная
удовлетворить эту потребность и
прячущая свое бессилие за
словесами о неготовности народа к
либерально-демократическим
порядкам и холуйскими призывами
нового авторитаризма.
![]() Чем же
характеризовалось идейное
выражение либеральной волны в
канун и в ходе антитоталитарной
революции? Оставляя в стороне
критическую часть, т.е.
разоблачение тоталитаризма и
развенчание марксизма (в чем с
прагматической точки зрения
либеральная интеллигенция весьма
преуспела при слабости, а порой и
гротескности
теоретического содержания такой
критики), формирующаяся
либеральная идеология строилась
вокруг трех ключевых
представлений, в тех или иных
формах и мерах рационализируемых
авторами. Данные представления в
своей взаимосвязи образовывали
своеобразный код этой идеологии.
Чем же
характеризовалось идейное
выражение либеральной волны в
канун и в ходе антитоталитарной
революции? Оставляя в стороне
критическую часть, т.е.
разоблачение тоталитаризма и
развенчание марксизма (в чем с
прагматической точки зрения
либеральная интеллигенция весьма
преуспела при слабости, а порой и
гротескности
теоретического содержания такой
критики), формирующаяся
либеральная идеология строилась
вокруг трех ключевых
представлений, в тех или иных
формах и мерах рационализируемых
авторами. Данные представления в
своей взаимосвязи образовывали
своеобразный код этой идеологии.
![]() Первое из них -
"философско-историческое" -
заключалось в том, что исход из
коммунизма означает не что иное,
как преодоление "особливости",
навязанной России большевизмом, и
становление ее такой, "как
все", т.е., согласно афоризму
Л.Баткина, превращение ее в "одну
из "западных стран",
"возвращение на большак мировой
цивилизации" (32). Ничего
особенного, кроме слома
коммунистического режима, а тем
более оригинального для этого
делать не нужно. Нужно просто позволить стране
развиваться по "общим
естественноисторическим
законам", которые сами сделают
свое дело (33). Этот синтез позитивистского
эволюционизма ХIХ века с
"естественноисторизмом"
марксизма обусловил вульгарный
прогрессизм и имитационный
характер доминировавшей формы
российского либерализма. Все это
сделало невозможным тот дух
эксперимента, о котором говоpилось
выше (34).
Первое из них -
"философско-историческое" -
заключалось в том, что исход из
коммунизма означает не что иное,
как преодоление "особливости",
навязанной России большевизмом, и
становление ее такой, "как
все", т.е., согласно афоризму
Л.Баткина, превращение ее в "одну
из "западных стран",
"возвращение на большак мировой
цивилизации" (32). Ничего
особенного, кроме слома
коммунистического режима, а тем
более оригинального для этого
делать не нужно. Нужно просто позволить стране
развиваться по "общим
естественноисторическим
законам", которые сами сделают
свое дело (33). Этот синтез позитивистского
эволюционизма ХIХ века с
"естественноисторизмом"
марксизма обусловил вульгарный
прогрессизм и имитационный
характер доминировавшей формы
российского либерализма. Все это
сделало невозможным тот дух
эксперимента, о котором говоpилось
выше (34).
![]() Второе
представление -
"экономическое" - необходимо
связано с первым. Поскольку, как
полагают,
"естественноисторические"
законы демонстрируются прежде
всего Западом, постольку
напрашивается вывод, что они
являются, во-первых, в своей
сущности экономическими, во-вторых,
универсальными. В том и другом -
квинтэссенция вульгарного
"экономизма". Проблема не в
том, что его приверженцы вообще не
видят "этнографического" и
исторического своеобразия России.
Но оно признается ими лишь в
качестве фактора, корректирующего
или "искажающего" проявления
этих законов. Однако
действительный вопрос заключается
в другом: что - в культуре,
общественной нравственности,
институциональной организации
общества и т.д. - вообще позволяет
этим законам представать в
качестве
"естественноисторических"?
Или, говоря языком Л.Альтюссера, что
делает экономику как
определенную институциональную
сферу общества "доминирующим" и
"детерминирующим" моментом в
структурной организации социумов известного
типа? (35)
Второе
представление -
"экономическое" - необходимо
связано с первым. Поскольку, как
полагают,
"естественноисторические"
законы демонстрируются прежде
всего Западом, постольку
напрашивается вывод, что они
являются, во-первых, в своей
сущности экономическими, во-вторых,
универсальными. В том и другом -
квинтэссенция вульгарного
"экономизма". Проблема не в
том, что его приверженцы вообще не
видят "этнографического" и
исторического своеобразия России.
Но оно признается ими лишь в
качестве фактора, корректирующего
или "искажающего" проявления
этих законов. Однако
действительный вопрос заключается
в другом: что - в культуре,
общественной нравственности,
институциональной организации
общества и т.д. - вообще позволяет
этим законам представать в
качестве
"естественноисторических"?
Или, говоря языком Л.Альтюссера, что
делает экономику как
определенную институциональную
сферу общества "доминирующим" и
"детерминирующим" моментом в
структурной организации социумов известного
типа? (35)
![]() Как бы ни
относиться к концепции Альтюссера
и его сторонников, а также к ходу
колоссальной дискуссии,
порожденной ею, ясно одно: тезис об
универсальности и
"базисности" в России
продемонстрированных Западом
экономических законов требует доказательства,
что в России имеются те же (или
аналогичные им по своему эффекту)
нравственно-культурно-институциональные
факторы, которые на Западе сделали
экономику "базисной" сферой, а
ее законы -
"естественноисторическими".
Если же доказать это невозможно, а
формирование такой организации, в
которой экономические законы
выступают
"естественноисторическими",
остается целью, то главный упор
реформаторских усилий должен быть
сделан как раз на создание,
развитие, укрепление таких
нравственно-культурно-институциональных
факторов, делающих цель достижимой.
Как бы ни
относиться к концепции Альтюссера
и его сторонников, а также к ходу
колоссальной дискуссии,
порожденной ею, ясно одно: тезис об
универсальности и
"базисности" в России
продемонстрированных Западом
экономических законов требует доказательства,
что в России имеются те же (или
аналогичные им по своему эффекту)
нравственно-культурно-институциональные
факторы, которые на Западе сделали
экономику "базисной" сферой, а
ее законы -
"естественноисторическими".
Если же доказать это невозможно, а
формирование такой организации, в
которой экономические законы
выступают
"естественноисторическими",
остается целью, то главный упор
реформаторских усилий должен быть
сделан как раз на создание,
развитие, укрепление таких
нравственно-культурно-институциональных
факторов, делающих цель достижимой.
![]() Однако подобные
рассуждения оказались абсолютно
чужды идеологии российского
либерального реформаторства,
построенного именно на вульгарном
"экономизме". Уже после удара
выборов 12 декабря, разрабатывая
свой "новый (!) курс", Е.Гайдар
как о позитиве своей прошлой
деятельности писал: "Идеология
реформы, которую мы начали в 1991 г.,
строилась на том, чтобы поднять
страну не за счет напряжения всей
мускулатуры государства, а как раз
наоборот - благодаря расслаблению
государственной узды, свертыванию
государственных структур. Отход
государства должен освободить
пространство для органического
развития экономики" (36).
Однако подобные
рассуждения оказались абсолютно
чужды идеологии российского
либерального реформаторства,
построенного именно на вульгарном
"экономизме". Уже после удара
выборов 12 декабря, разрабатывая
свой "новый (!) курс", Е.Гайдар
как о позитиве своей прошлой
деятельности писал: "Идеология
реформы, которую мы начали в 1991 г.,
строилась на том, чтобы поднять
страну не за счет напряжения всей
мускулатуры государства, а как раз
наоборот - благодаря расслаблению
государственной узды, свертыванию
государственных структур. Отход
государства должен освободить
пространство для органического
развития экономики" (36).
![]() Трудно понять
концептуально, но легко понять
идеологически, почему вопрос о
"напряжении мускулатуры
государства" рассматривается только
в отношении экономики, тогда как
он должен был бы рассматриваться в
отношении того, что может ее
(как экономику "западного
типа") создать и запустить,
почему из ничто (отход государства)
само собой должно возникнуть нечто
(органическое развитие) и чем логически
такое умозаключение отличается от
осмеянного нашими доморощенными
"демократами" пролетарского
припева "кто был ничем, тот
станет всем". Но этот вопрос
остается совершенно риторическим,
покуда сохраняется та парадигма
отечественного либерального
реформаторства, которую в свое
время с потрясающей простотой
выразил министр и видный член
первой гайдаровской "команды"
П.Авен: "Нет особых стран. С точки
зрения экономиста, если экономика -
это наука со своими законами, все
страны в плане стабилизации
о-ди-на-ко-вы" (37). Стабилизации
чего - осталось за кадром.
Трудно понять
концептуально, но легко понять
идеологически, почему вопрос о
"напряжении мускулатуры
государства" рассматривается только
в отношении экономики, тогда как
он должен был бы рассматриваться в
отношении того, что может ее
(как экономику "западного
типа") создать и запустить,
почему из ничто (отход государства)
само собой должно возникнуть нечто
(органическое развитие) и чем логически
такое умозаключение отличается от
осмеянного нашими доморощенными
"демократами" пролетарского
припева "кто был ничем, тот
станет всем". Но этот вопрос
остается совершенно риторическим,
покуда сохраняется та парадигма
отечественного либерального
реформаторства, которую в свое
время с потрясающей простотой
выразил министр и видный член
первой гайдаровской "команды"
П.Авен: "Нет особых стран. С точки
зрения экономиста, если экономика -
это наука со своими законами, все
страны в плане стабилизации
о-ди-на-ко-вы" (37). Стабилизации
чего - осталось за кадром.
![]() Третье
представление -
"структурно-социологическое"
и (как следствие и сторона того же)
"политико-идеологическое".
Схематично его можно выразить
следующим образом: если
"естественноисторическим"
законам не мешать, то, сами собой
формируя рынок, они тем самым
(поскольку они "базисны") будут
создавать "соответствующую"
социальную структуру общества.
Стpуктуpа (ибо законы универсально
о-ди-на-ко-вы) окажется в принципе
("со временем") схожей с
социальной структурой западных
обществ. Поскольку же эти общества
являются демократическими, таковой
будет и Россия. Это и есть
линейно-однонаправленная
каузальная связь экономических и
политических изменений, легшая в
основу практического курса реформ
и сделавшая экономику (несколько
парадоксально с точки зрения
установки на "уход" и
"свертывание" государства)
абсолютным приоритетом
государственной деятельности.
Третье
представление -
"структурно-социологическое"
и (как следствие и сторона того же)
"политико-идеологическое".
Схематично его можно выразить
следующим образом: если
"естественноисторическим"
законам не мешать, то, сами собой
формируя рынок, они тем самым
(поскольку они "базисны") будут
создавать "соответствующую"
социальную структуру общества.
Стpуктуpа (ибо законы универсально
о-ди-на-ко-вы) окажется в принципе
("со временем") схожей с
социальной структурой западных
обществ. Поскольку же эти общества
являются демократическими, таковой
будет и Россия. Это и есть
линейно-однонаправленная
каузальная связь экономических и
политических изменений, легшая в
основу практического курса реформ
и сделавшая экономику (несколько
парадоксально с точки зрения
установки на "уход" и
"свертывание" государства)
абсолютным приоритетом
государственной деятельности.
![]() Связь же
изложенного
"структурно-социологического"
представления с
"политико-идеологическим"
заключается в следующем. Если
"естественноисторические"
законы действуют автоматически и
спонтанно, и, главное, им не мешать,
то роль идеологии (как в лучшем
случае излишней с точки зрения их
действия, а в худшем - искажающей
его) должна быть минимизирована и в
идеале совсем упразднена.
Блестящее, хотя и
деревянно-прямолинейное выражение
этой связи дал видный
петербургский социолог и знаток
общественного мнения Л.Кесельман
буквально за сутки до выборов 12
декабря (во что даже трудно
поверить) в статье под характерным
названием "Страна брошена? Да. В
нормальную жизнь":
"Идеологическое" обеспечение
реформ - это просто прилавки
магазинов, начиная с Елисеевского и
кончая самой окраинной торговой
точкой, а не измышления
журналистов..." (38)
Связь же
изложенного
"структурно-социологического"
представления с
"политико-идеологическим"
заключается в следующем. Если
"естественноисторические"
законы действуют автоматически и
спонтанно, и, главное, им не мешать,
то роль идеологии (как в лучшем
случае излишней с точки зрения их
действия, а в худшем - искажающей
его) должна быть минимизирована и в
идеале совсем упразднена.
Блестящее, хотя и
деревянно-прямолинейное выражение
этой связи дал видный
петербургский социолог и знаток
общественного мнения Л.Кесельман
буквально за сутки до выборов 12
декабря (во что даже трудно
поверить) в статье под характерным
названием "Страна брошена? Да. В
нормальную жизнь":
"Идеологическое" обеспечение
реформ - это просто прилавки
магазинов, начиная с Елисеевского и
кончая самой окраинной торговой
точкой, а не измышления
журналистов..." (38)
![]() Нужно сказать,
что не все "властители дум" в
рассматриваемый период разделяли
простодушное представление о
линейной связи рыночных и
демократических изменений.
Некоторые из них полагали, что переход от
тоталитаризма к демократии будет
необходимым образом опосредован авторитаризмом,
главной функцией которого окажется
именно формирование рынка (39). Примечательно, что к схожему
выводу все более определенно
склонялись и практики рыночной
реформы, далекие от отвлеченных
политологических размышлений (40).
Нужно сказать,
что не все "властители дум" в
рассматриваемый период разделяли
простодушное представление о
линейной связи рыночных и
демократических изменений.
Некоторые из них полагали, что переход от
тоталитаризма к демократии будет
необходимым образом опосредован авторитаризмом,
главной функцией которого окажется
именно формирование рынка (39). Примечательно, что к схожему
выводу все более определенно
склонялись и практики рыночной
реформы, далекие от отвлеченных
политологических размышлений (40).
![]() В связи с нашей
темой эта точка зрения интересна
лишь в трех отношениях - как раз тех,
которые не были эксплицированы ее
выразителями: а) осуществимость
"авторитарного проекта" в
реальных социокультурных условиях
современной России; б) ее
противоположность сущности
"либерального проекта" и его
базовой методологии; в)
необоснованность того, что
авторитарный режим, паки он
возможен, должен будет
"работать" на рыночную
реформу.
В связи с нашей
темой эта точка зрения интересна
лишь в трех отношениях - как раз тех,
которые не были эксплицированы ее
выразителями: а) осуществимость
"авторитарного проекта" в
реальных социокультурных условиях
современной России; б) ее
противоположность сущности
"либерального проекта" и его
базовой методологии; в)
необоснованность того, что
авторитарный режим, паки он
возможен, должен будет
"работать" на рыночную
реформу.
![]() Первое.
Описанный создателями данной
концепции авторитарный режим может
"по определению" иметь
основанием своей легитимности
только собственную эффективность
по внедрению рыночных начал (если
бы рынок - в рамках данного подхода -
не противоречил другим основаниям
легитимности и, прежде всего,
восприятию справедливости, то
режиму вообще нет надобности быть
авторитарным). Рыночное основание
легитимности, дабы обеспечивать
хоть какую-то стабильность режима,
должно быть способным оттеснять на
второй план общественного внимания
или вообще снимать с публичной
"повестки дня" другие вопросы,
порождающие дискуссии и конфликты.
Именно для такого режима в высшей
мере актуальной становится
деполитизация и деидеологизация
общественной жизни, та
политическая максима, которую
сформулировал М.Фридмен
относительно любого общества с
"базисной"
(структурообразующей) ролью
экономики: "Чем меньше тем, по
которым требуется согласие, тем
больше вероятность согласия при
сохранении свободного общества" (41).
Первое.
Описанный создателями данной
концепции авторитарный режим может
"по определению" иметь
основанием своей легитимности
только собственную эффективность
по внедрению рыночных начал (если
бы рынок - в рамках данного подхода -
не противоречил другим основаниям
легитимности и, прежде всего,
восприятию справедливости, то
режиму вообще нет надобности быть
авторитарным). Рыночное основание
легитимности, дабы обеспечивать
хоть какую-то стабильность режима,
должно быть способным оттеснять на
второй план общественного внимания
или вообще снимать с публичной
"повестки дня" другие вопросы,
порождающие дискуссии и конфликты.
Именно для такого режима в высшей
мере актуальной становится
деполитизация и деидеологизация
общественной жизни, та
политическая максима, которую
сформулировал М.Фридмен
относительно любого общества с
"базисной"
(структурообразующей) ролью
экономики: "Чем меньше тем, по
которым требуется согласие, тем
больше вероятность согласия при
сохранении свободного общества" (41).
![]() Но проблема в
том, что такой подход предполагает
локализацию конфликтности,
замыкание общественной дискуссии
на уровне распределения ресурсов и
абстрагирование от уровней
определения, кто есть "мы" и
каковы базисные процедуры
жизнедеятельности этого "мы"
(о чем речь шла выше). Однако для
России сейчас такое
абстрагирование совершенно
невозможно. Элитарные попытки
абстрагироваться от всего этого
путем искусственного введения
базисных процедур методами пактов
об "общественном согласии"
неизбежно неадекватны ситуации,
поскольку эти процедуры тут же
становятся предметом торга с
позиций тех же частных интересов
(что уже наглядно
продемонстрировали В.Жириновский и
другие). Меж тем неопределенность
на уровне идентичности "мы" и
базисных процедур делает
невозможной легитимацию режима
через его эффективность в
отношении рынка: он просто не может
действовать эффективно в рыночной
реформе, пока сохраняется
указанная неопределенность.
Но проблема в
том, что такой подход предполагает
локализацию конфликтности,
замыкание общественной дискуссии
на уровне распределения ресурсов и
абстрагирование от уровней
определения, кто есть "мы" и
каковы базисные процедуры
жизнедеятельности этого "мы"
(о чем речь шла выше). Однако для
России сейчас такое
абстрагирование совершенно
невозможно. Элитарные попытки
абстрагироваться от всего этого
путем искусственного введения
базисных процедур методами пактов
об "общественном согласии"
неизбежно неадекватны ситуации,
поскольку эти процедуры тут же
становятся предметом торга с
позиций тех же частных интересов
(что уже наглядно
продемонстрировали В.Жириновский и
другие). Меж тем неопределенность
на уровне идентичности "мы" и
базисных процедур делает
невозможной легитимацию режима
через его эффективность в
отношении рынка: он просто не может
действовать эффективно в рыночной
реформе, пока сохраняется
указанная неопределенность.
![]() Это означает,
что, даже стремясь к авторитарному
решению проблемы рыночной реформы
(а такое стремление само под
вопросом), режим, обнаруживая
впечатляющую "способность
оставаться", не может
авторитарно
институционализироваться.
Используя классическую
формулировку Х.Линца (созданную на
латиноамериканском материале),
можно сказать, что возникает
"авторитарная ситуация", но не
авторитарный режим, что совсем не
одно и то же (42). "Железная
рука" для России оказывается
маловероятной, если ее дело -
формирование рынка. Но это еще не
говорит о невероятности другой
"железной руки", не ищущей
легитимности в эффективном
проведении рыночной реформы.
Это означает,
что, даже стремясь к авторитарному
решению проблемы рыночной реформы
(а такое стремление само под
вопросом), режим, обнаруживая
впечатляющую "способность
оставаться", не может
авторитарно
институционализироваться.
Используя классическую
формулировку Х.Линца (созданную на
латиноамериканском материале),
можно сказать, что возникает
"авторитарная ситуация", но не
авторитарный режим, что совсем не
одно и то же (42). "Железная
рука" для России оказывается
маловероятной, если ее дело -
формирование рынка. Но это еще не
говорит о невероятности другой
"железной руки", не ищущей
легитимности в эффективном
проведении рыночной реформы.
![]() Второе.
Представление о ключевой роли
авторитарного режима в
формировании и "запуске" рынка
не только противоречит самим
основам либерального
мировоззрения, но выбивает из его
рук полемическое оружие,
использованное им ранее против
марксизма и любых концепций
"сознательно-плановой"
организации общественной жизни.
Ведь для либерализма - и прежде
всего для экономического
либерализма, который идеологически
доминировал в России в
рассматриваемый период, - рынок
есть "по определению" (Хайека,
Мизеса, Фридмена и т.д.) спонтанно сложившийся
порядок. Как прекрасно выразил эту
мысль Хайек в своей Нобелевской
речи, "если человек не собирается
принести своими усилиями улучшить
социальный порядок больше вреда,
чем пользы, ему нужно осознать, что
для этого... он не может приобрести
полное знание, которое позволило бы
овладеть событиями". Он может не
"формовать результаты, как
ремесленник формует изделие, но
скорее способствовать росту,
создавая соответствующую среду,
так же, как это делает садовник со
своими растениями" (43).
Возможность авторитарного режима
"формовать" рынок (скажем, производить
посредством ваучеризации
собственников) предполагает
обладание им такими знаниями и
методами деятельности, в которых
было принципиально отказано
коммунистическому (и любому
другому) государству. Если
принципиальность такого отказа
устраняется и ими все же можно так
или иначе овладеть, то критика
коммунизма смещается в совершенно
дpугую плоскость, в которой
преимущество либерализма отнюдь не
очевидно. В этом случае вполне
допустимо (вновь!) рассуждать о
провале данной попытки
коммунизма, предполагая
возможность более совершенной
новой попытки, т.е. выдвигать
альтернативой ленинизму и
сталинизму не либерализм, а
"демократический социализм".
Второе.
Представление о ключевой роли
авторитарного режима в
формировании и "запуске" рынка
не только противоречит самим
основам либерального
мировоззрения, но выбивает из его
рук полемическое оружие,
использованное им ранее против
марксизма и любых концепций
"сознательно-плановой"
организации общественной жизни.
Ведь для либерализма - и прежде
всего для экономического
либерализма, который идеологически
доминировал в России в
рассматриваемый период, - рынок
есть "по определению" (Хайека,
Мизеса, Фридмена и т.д.) спонтанно сложившийся
порядок. Как прекрасно выразил эту
мысль Хайек в своей Нобелевской
речи, "если человек не собирается
принести своими усилиями улучшить
социальный порядок больше вреда,
чем пользы, ему нужно осознать, что
для этого... он не может приобрести
полное знание, которое позволило бы
овладеть событиями". Он может не
"формовать результаты, как
ремесленник формует изделие, но
скорее способствовать росту,
создавая соответствующую среду,
так же, как это делает садовник со
своими растениями" (43).
Возможность авторитарного режима
"формовать" рынок (скажем, производить
посредством ваучеризации
собственников) предполагает
обладание им такими знаниями и
методами деятельности, в которых
было принципиально отказано
коммунистическому (и любому
другому) государству. Если
принципиальность такого отказа
устраняется и ими все же можно так
или иначе овладеть, то критика
коммунизма смещается в совершенно
дpугую плоскость, в которой
преимущество либерализма отнюдь не
очевидно. В этом случае вполне
допустимо (вновь!) рассуждать о
провале данной попытки
коммунизма, предполагая
возможность более совершенной
новой попытки, т.е. выдвигать
альтернативой ленинизму и
сталинизму не либерализм, а
"демократический социализм".
![]() Исходя из этого
(интуитивно или осознанно),
либеральные оппоненты
отечественных
"авторитаристов" попытались
эклектически соединить и
принципиальный тезис о
спонтанности
рыночно-экономического развития, и
представление об
инициативно-реформаторской роли
государства. Последняя была
категорически необходима (еще один
парадокс) как раз по идеологическим
причинам: ведь острие либеральной
критики советского тоталитаризма
было направлено именно на то, что он
в результате полного
огосударствления общества
уничтожил все социальные субъекты,
способные к самодеятельности (в том
числе и экономической). Поэтому никаких
субъектов реформ - по крайней мере
на начальном ее этапе, - кроме того
же государства, нельзя себе и
представить (44).
Исходя из этого
(интуитивно или осознанно),
либеральные оппоненты
отечественных
"авторитаристов" попытались
эклектически соединить и
принципиальный тезис о
спонтанности
рыночно-экономического развития, и
представление об
инициативно-реформаторской роли
государства. Последняя была
категорически необходима (еще один
парадокс) как раз по идеологическим
причинам: ведь острие либеральной
критики советского тоталитаризма
было направлено именно на то, что он
в результате полного
огосударствления общества
уничтожил все социальные субъекты,
способные к самодеятельности (в том
числе и экономической). Поэтому никаких
субъектов реформ - по крайней мере
на начальном ее этапе, - кроме того
же государства, нельзя себе и
представить (44).
![]() В итоге
получилось (в варианте Баткина)
следующее: "Создать новую
экономику тяжко, но все же легче,
чем думают многие, потому что требуется
не столько "создавать" ее,
сколько разрешить. Но для этого
действительно необходим очень
мощный, радикальный
государственный стартовый толчок,
а для этого - сильная власть...
Однако почему демократическая
власть не может быть сильной?" (45) (выделено мной. - Б.К.).
В итоге
получилось (в варианте Баткина)
следующее: "Создать новую
экономику тяжко, но все же легче,
чем думают многие, потому что требуется
не столько "создавать" ее,
сколько разрешить. Но для этого
действительно необходим очень
мощный, радикальный
государственный стартовый толчок,
а для этого - сильная власть...
Однако почему демократическая
власть не может быть сильной?" (45) (выделено мной. - Б.К.).
![]() Зачем нужно
мощно (да и вообще как-либо) толкать
то, что для (само) развития
нуждается лишь в разрешении? Почему
для простого разрешения нужна
сильная (демократическая или иная)
власть? Возможно, она нужна для
того, чтобы сломить сопротивление
некоторых сил, мощных настолько,
что они способны заглушить
"естественное" развитие
рыночных начал даже в условиях
полученного ими разрешения? Но
тогда что "естественного" в
таком развитии, если оно прямо
обусловлено
социально-политическими
обстоятельствами, причем
независимыми от государства,
которое предполагается
приверженным поддержке и защите
рынка? Разве не необходимостью
слома такого сопротивления
объясняли роль "железной руки"
при переходе к рынку наши
"авторитаристы"?
Зачем нужно
мощно (да и вообще как-либо) толкать
то, что для (само) развития
нуждается лишь в разрешении? Почему
для простого разрешения нужна
сильная (демократическая или иная)
власть? Возможно, она нужна для
того, чтобы сломить сопротивление
некоторых сил, мощных настолько,
что они способны заглушить
"естественное" развитие
рыночных начал даже в условиях
полученного ими разрешения? Но
тогда что "естественного" в
таком развитии, если оно прямо
обусловлено
социально-политическими
обстоятельствами, причем
независимыми от государства,
которое предполагается
приверженным поддержке и защите
рынка? Разве не необходимостью
слома такого сопротивления
объясняли роль "железной руки"
при переходе к рынку наши
"авторитаристы"?
![]() Единственная
логически допустимая возможность
отстоять демократическую
перспективу при переходе к рынку -
выявить наличие достаточно мощных
общественных групп, поддерживающих
такую стратегию реформ. Но,
во-первых, как было сказано,
постулаты идеологической критики
тоталитаризма заставляют отрицать
их наличие. Во-вторых, откуда вообще
они могут появиться на начальном
этапе реформ? Из тех самых
"низовых демократических сил",
которые, как пишет Баткин,
"только что... появились словно
из-под земли, зеленые, пока еще
слабые..." (46)? Но, с одной
стороны, они действительно слишком
слабые, чтобы справиться со
структурированными силами
сопротивления переходу к рынку. С
другой стороны, почему эти
"низовые силы" должны быть
обязательно "прорыночными", а
не демократическими и анти- или
хотя бы "нерыночными"? Почему
они не могут демонстрировать
именно то сочетание ориентаций,
которое было характерно для
основной части "низового
движения" на Западе в ХIХ веке и
из-за которого самые прорыночные
либералы там и тогда до последнего
отстаивали имущественный и прочие
избирательные цензы, откровенно
направленные против участия
демократических "низов" в
политической жизни? (47)
Единственная
логически допустимая возможность
отстоять демократическую
перспективу при переходе к рынку -
выявить наличие достаточно мощных
общественных групп, поддерживающих
такую стратегию реформ. Но,
во-первых, как было сказано,
постулаты идеологической критики
тоталитаризма заставляют отрицать
их наличие. Во-вторых, откуда вообще
они могут появиться на начальном
этапе реформ? Из тех самых
"низовых демократических сил",
которые, как пишет Баткин,
"только что... появились словно
из-под земли, зеленые, пока еще
слабые..." (46)? Но, с одной
стороны, они действительно слишком
слабые, чтобы справиться со
структурированными силами
сопротивления переходу к рынку. С
другой стороны, почему эти
"низовые силы" должны быть
обязательно "прорыночными", а
не демократическими и анти- или
хотя бы "нерыночными"? Почему
они не могут демонстрировать
именно то сочетание ориентаций,
которое было характерно для
основной части "низового
движения" на Западе в ХIХ веке и
из-за которого самые прорыночные
либералы там и тогда до последнего
отстаивали имущественный и прочие
избирательные цензы, откровенно
направленные против участия
демократических "низов" в
политической жизни? (47)
![]() Кроме того, что и
как нужно сделать для того, чтобы
эти зеленые движенческие ростки,
даже если их не раздавит каток
рыночной реформы, как это реально
произошло в России, могли бы
перейти в состояние дееспособных
политических формаций, реально
влияющих на принятие общественно
значимых решений? Ничего
спонтанного тут нет и не бывало
никогда. Что же касается расхожих в
российском либерализме установок
на деполитизацию и деидеологизацию
масс при комически-неадекватном
понимании условий и силовых полей
реальной общественной борьбы, то
все это в прямом смысле контрпродуктивно
для решения данной задачи.
Кроме того, что и
как нужно сделать для того, чтобы
эти зеленые движенческие ростки,
даже если их не раздавит каток
рыночной реформы, как это реально
произошло в России, могли бы
перейти в состояние дееспособных
политических формаций, реально
влияющих на принятие общественно
значимых решений? Ничего
спонтанного тут нет и не бывало
никогда. Что же касается расхожих в
российском либерализме установок
на деполитизацию и деидеологизацию
масс при комически-неадекватном
понимании условий и силовых полей
реальной общественной борьбы, то
все это в прямом смысле контрпродуктивно
для решения данной задачи.
![]() Наконец,
последнее. Либеральные оппоненты
"авторитаристов" исходили из
того, что "в стране нет таких
достаточно влиятельных социальных
слоев, которые были бы кровно
заинтересованы в авторитарной
модели и готовы немедленно
послужить массовой опорой для
"вождя" (48). Разве что
старый госпаpтаппарат, еще
влиятельный, но уже дряхлый.
Осилить его "естественно"
растущим рыночно-демократическим
силам представлялось вполне
реальным делом. Шел 1989 год. В 1994 году
В.Жириновский точно указал на такой
слой, точно наименовал его и точно
выразил его программу. Это -
"молодые волки" (49). Они
выросли именно
"естественно-спонтанным"
путем, как о том мечталось
российским либералам, пройдя путь
от мелкой фарцовки до солидных
фирм. Они - никак не "пролетарская
партия". Они за такой размах
приватизации всего и всея - вплоть
до природных ресурсов и основных
средств производства, - какой
превосходит даже фантазии
"обвальной приватизации"
самых патентованных либералов.
Причем все это - в самом
капиталистическом варианте
("есть деньги - подходи, покупай
завод..."), а не с
"народолюбивой" чубайсовской
стыдливостью. Да, они за внешнюю
экспансию, однако не ради
мистического державного величия, а
по самым прагматическим
обывательским мотивам частного
интереса, на который такую ставку
делал российский либерализм, но
который реально экономически
рыночными методами еще долго
удовлетворить будет нельзя,
учитывая неизбежные и долгие
тяготы "переходного периода",
а это сделать нужно, если он и только
он, этот самый частный интерес,
кладется в фундамент легитимации
режима. Да, они за
распределительные функции
государства, за гарантированную
подкормку обездоленных, имеющую
явный смысл корпоративного
патронажа. Но это опять же - лишь
реалистический учет необходимого
условия предотвращения смуты для
формирования власти частного
капитала в кризисной России, о
котором мало и столь поверхностно
думали наши мечтательные
патентованные либералы. Они за
сохранение мощного, но
подконтрольного им чиновничества,
ибо - и это еще один момент реализма
- они понимают, что без такого
союзника
авторитарно-корпоративный, но
базирующийся на рынке и частной
собственности строй не создать.
Наконец,
последнее. Либеральные оппоненты
"авторитаристов" исходили из
того, что "в стране нет таких
достаточно влиятельных социальных
слоев, которые были бы кровно
заинтересованы в авторитарной
модели и готовы немедленно
послужить массовой опорой для
"вождя" (48). Разве что
старый госпаpтаппарат, еще
влиятельный, но уже дряхлый.
Осилить его "естественно"
растущим рыночно-демократическим
силам представлялось вполне
реальным делом. Шел 1989 год. В 1994 году
В.Жириновский точно указал на такой
слой, точно наименовал его и точно
выразил его программу. Это -
"молодые волки" (49). Они
выросли именно
"естественно-спонтанным"
путем, как о том мечталось
российским либералам, пройдя путь
от мелкой фарцовки до солидных
фирм. Они - никак не "пролетарская
партия". Они за такой размах
приватизации всего и всея - вплоть
до природных ресурсов и основных
средств производства, - какой
превосходит даже фантазии
"обвальной приватизации"
самых патентованных либералов.
Причем все это - в самом
капиталистическом варианте
("есть деньги - подходи, покупай
завод..."), а не с
"народолюбивой" чубайсовской
стыдливостью. Да, они за внешнюю
экспансию, однако не ради
мистического державного величия, а
по самым прагматическим
обывательским мотивам частного
интереса, на который такую ставку
делал российский либерализм, но
который реально экономически
рыночными методами еще долго
удовлетворить будет нельзя,
учитывая неизбежные и долгие
тяготы "переходного периода",
а это сделать нужно, если он и только
он, этот самый частный интерес,
кладется в фундамент легитимации
режима. Да, они за
распределительные функции
государства, за гарантированную
подкормку обездоленных, имеющую
явный смысл корпоративного
патронажа. Но это опять же - лишь
реалистический учет необходимого
условия предотвращения смуты для
формирования власти частного
капитала в кризисной России, о
котором мало и столь поверхностно
думали наши мечтательные
патентованные либералы. Они за
сохранение мощного, но
подконтрольного им чиновничества,
ибо - и это еще один момент реализма
- они понимают, что без такого
союзника
авторитарно-корпоративный, но
базирующийся на рынке и частной
собственности строй не создать.
![]() Здесь и
коренится ответ на третий вопрос,
который хотелось затронуть в связи
с аргументами отечественных
"авторитаристов". Оппоненты
спрашивали их: почему вообще
авторитарный режим (паки такой
возможен) должен "работать" на
рыночную реформу? Ни человеческие
качества, ни, что важнее,
социально-сословные
характеристики того
"материала", из которого он
реально строится в начале
переходного периода, отнюдь не
делали такое долженствование
самоочевидным. Апелляция к доброй и
просвещенной воле благодетельного
автократа как вариант ответа
выглядела совсем уж наивной.
Здесь и
коренится ответ на третий вопрос,
который хотелось затронуть в связи
с аргументами отечественных
"авторитаристов". Оппоненты
спрашивали их: почему вообще
авторитарный режим (паки такой
возможен) должен "работать" на
рыночную реформу? Ни человеческие
качества, ни, что важнее,
социально-сословные
характеристики того
"материала", из которого он
реально строится в начале
переходного периода, отнюдь не
делали такое долженствование
самоочевидным. Апелляция к доброй и
просвещенной воле благодетельного
автократа как вариант ответа
выглядела совсем уж наивной.
![]() Жириновский и
этой проблеме нашел убедительное
решение. Действительно,
"аппарат" не должен и не будет
создавать рынок (а будет в лучшем
случае симулировать такое
"созидание") до тех пор, пока из
процесса общественного
(экономического, культурного,
нравственного, институционального)
разложения не выкристаллизуется
такая сила бизнеса, которая,
стремясь к собственному
привилегированному положению,
будет готова обеспечить
"аппарату", в качестве
союзника по выстраиванию новой
системы, стабильное и тоже
привилегированное положение. То,
что это будет
авторитарно-корпоративная и в то
же время рыночная система, может
удивлять лишь отечественных
либералов и уж совсем
ортодоксальных либертарианцев.
Конечно, это будет рынок совсем не
"равных возможностей", а
существенно иерархический - вплоть
до разных правил игры на разных его
этажах и институционально
закрепленных возможностей
угнетения высшими иерархическими
порядками низших. Это будет рынок
не "свободной конкуренции", а
выражено олигополистический с
доминированием симбиотических
форм власти и собственности (50). Абстрактно говоря,
эффективность такого рынка - с
точки зрения обеспечения
технологического прогресса или
мировой конкурентоспособности
продукции с высокой долей
добавленной стоимости, - конечно,
очень сомнительна. Но абстрактная
эффективность - предмет
размышлений наукообразных
экономистов. С точки же зрения конкретной
эффективности, отвечающей на
вопрос "эффективность для
кого?", данная конструкция
обещает быть весьма эффективной.
Жириновский и
этой проблеме нашел убедительное
решение. Действительно,
"аппарат" не должен и не будет
создавать рынок (а будет в лучшем
случае симулировать такое
"созидание") до тех пор, пока из
процесса общественного
(экономического, культурного,
нравственного, институционального)
разложения не выкристаллизуется
такая сила бизнеса, которая,
стремясь к собственному
привилегированному положению,
будет готова обеспечить
"аппарату", в качестве
союзника по выстраиванию новой
системы, стабильное и тоже
привилегированное положение. То,
что это будет
авторитарно-корпоративная и в то
же время рыночная система, может
удивлять лишь отечественных
либералов и уж совсем
ортодоксальных либертарианцев.
Конечно, это будет рынок совсем не
"равных возможностей", а
существенно иерархический - вплоть
до разных правил игры на разных его
этажах и институционально
закрепленных возможностей
угнетения высшими иерархическими
порядками низших. Это будет рынок
не "свободной конкуренции", а
выражено олигополистический с
доминированием симбиотических
форм власти и собственности (50). Абстрактно говоря,
эффективность такого рынка - с
точки зрения обеспечения
технологического прогресса или
мировой конкурентоспособности
продукции с высокой долей
добавленной стоимости, - конечно,
очень сомнительна. Но абстрактная
эффективность - предмет
размышлений наукообразных
экономистов. С точки же зрения конкретной
эффективности, отвечающей на
вопрос "эффективность для
кого?", данная конструкция
обещает быть весьма эффективной.
![]() "Жириновское
решение" проблемы рыночной
реформы не должно восприниматься
отечественными либералами как
очередной "незаконный" эксперимент.
Оно есть естественное (без кавычек)
следствие действия этих самых
"естественноисторических"
законов именно потому, что любой
рынок, хоть чем-то похожий на
"свободный", есть продукт не
экономических процессов самих по
себе, а социальных процессов, т.е.
результат определенной
расстановки и борьбы общественных
сил.
"Жириновское
решение" проблемы рыночной
реформы не должно восприниматься
отечественными либералами как
очередной "незаконный" эксперимент.
Оно есть естественное (без кавычек)
следствие действия этих самых
"естественноисторических"
законов именно потому, что любой
рынок, хоть чем-то похожий на
"свободный", есть продукт не
экономических процессов самих по
себе, а социальных процессов, т.е.
результат определенной
расстановки и борьбы общественных
сил.
![]() Не нужно быть
большим знатоком экономической
теории, чтобы принять вывод
Е.Бем-Баверка (или соответствующие
заключения Й.Шумпетера, К.Маркса,
Дж.М.Кейнса и др.) о том, что
"свобода действий"
капиталистического предприятия
ходом его развития
"превращается во власть и
господство", разрушающие
"равновесие частного
хозяйственного порядка" (в нашем
случае - не позволяющие ему вообще
сложиться), так что "учение о
свободе оказывается
неприменимым..." (51) Не
требуется большой искушенности в
логике деятельности частного
капитала, чтобы понять:
монополистическая позиция всегда
предпочтительнее с точки зрения
максимизации выгоды, и к ней будут
стремиться любыми средствами,
поскольку издержки, связанные с
таким стремлением, не перевешивают
ожидаемые выигрыши. Сращивание с
властью с этой точки зрения было и
остается идеальной ситуацией для
частного капитала, поскольку такая
цель лежит для него в горизонте
достижимости. Не обязательно быть
"верным марксистом", чтобы
оценить глубину мысли Маркса о том,
что имманентные законы капитала, дабы
быть действительными, должны
быть навязаны ему как
"внешняя необходимость" (52). Это навязывание и
достигается прежде всего как исход
социально-политической борьбы при
определенном соотношении сил, о чем
свидетельствует, в частности,
история всего
антимонополистического
законодательства на Западе,
начиная с американского закона
Шермана конца прошлого века (53). Но схожие в логическом
плане свидетельства можно
почерпнуть и из эпохи демонтажа
меркантилистской системы, и из
эпохи "первоначального
накопления"... Здесь и выясняется
неприятная для отечественных
либералов вещь: Жириновский в
действительности и относительно
действительности есть то, что они
есть в фантазии и относительно
фантазии. Жириновский, как и они,
верен эконом-либеральной логике
частного интереса, но в отличие от
них не фантазирует, будто этот
интерес (уже) есть экономический
интерес. Они не видят и не понимают
проблемы превращения частного
интереса в производительный
экономический интерес. Для
Жириновского вообще не существует
этой проблемы. Он берет российскую
действительность, как она
сложилась спонтанно и
"естественно", и
соответственно действует. Тут-то и
выясняется: национал-либерализм
Жириновского во всех его
уродливо-гротескных формах есть
единственное реальное воплощение
фантазий эконом-либерализма.
Последний либо живет, но "по
Жириновскому", либо мечтает, но в
исполнении бывших "властителей
дум". Третьего, оказывается, не
дано. Или так: третье может быть
найдено, если российскую
действительность экономический
либерализм и его политическая
теория описывают неточно, причем не
только как наличное состояние, но
именно как тенденцию и перспективу
движения. Если это так, то политике
Жириновского можно найти
демократическую альтернативу. В
противном случае это очень
маловероятно. Результаты выборов 12
декабря поставили данный вопрос
ребром. Либеральная публика
(политические практики и идеологи)
испытали шок. Они начали думать,
кое-что пересматривать, но
обдумывают не тот вопрос, который
был сформулирован выше.
Не нужно быть
большим знатоком экономической
теории, чтобы принять вывод
Е.Бем-Баверка (или соответствующие
заключения Й.Шумпетера, К.Маркса,
Дж.М.Кейнса и др.) о том, что
"свобода действий"
капиталистического предприятия
ходом его развития
"превращается во власть и
господство", разрушающие
"равновесие частного
хозяйственного порядка" (в нашем
случае - не позволяющие ему вообще
сложиться), так что "учение о
свободе оказывается
неприменимым..." (51) Не
требуется большой искушенности в
логике деятельности частного
капитала, чтобы понять:
монополистическая позиция всегда
предпочтительнее с точки зрения
максимизации выгоды, и к ней будут
стремиться любыми средствами,
поскольку издержки, связанные с
таким стремлением, не перевешивают
ожидаемые выигрыши. Сращивание с
властью с этой точки зрения было и
остается идеальной ситуацией для
частного капитала, поскольку такая
цель лежит для него в горизонте
достижимости. Не обязательно быть
"верным марксистом", чтобы
оценить глубину мысли Маркса о том,
что имманентные законы капитала, дабы
быть действительными, должны
быть навязаны ему как
"внешняя необходимость" (52). Это навязывание и
достигается прежде всего как исход
социально-политической борьбы при
определенном соотношении сил, о чем
свидетельствует, в частности,
история всего
антимонополистического
законодательства на Западе,
начиная с американского закона
Шермана конца прошлого века (53). Но схожие в логическом
плане свидетельства можно
почерпнуть и из эпохи демонтажа
меркантилистской системы, и из
эпохи "первоначального
накопления"... Здесь и выясняется
неприятная для отечественных
либералов вещь: Жириновский в
действительности и относительно
действительности есть то, что они
есть в фантазии и относительно
фантазии. Жириновский, как и они,
верен эконом-либеральной логике
частного интереса, но в отличие от
них не фантазирует, будто этот
интерес (уже) есть экономический
интерес. Они не видят и не понимают
проблемы превращения частного
интереса в производительный
экономический интерес. Для
Жириновского вообще не существует
этой проблемы. Он берет российскую
действительность, как она
сложилась спонтанно и
"естественно", и
соответственно действует. Тут-то и
выясняется: национал-либерализм
Жириновского во всех его
уродливо-гротескных формах есть
единственное реальное воплощение
фантазий эконом-либерализма.
Последний либо живет, но "по
Жириновскому", либо мечтает, но в
исполнении бывших "властителей
дум". Третьего, оказывается, не
дано. Или так: третье может быть
найдено, если российскую
действительность экономический
либерализм и его политическая
теория описывают неточно, причем не
только как наличное состояние, но
именно как тенденцию и перспективу
движения. Если это так, то политике
Жириновского можно найти
демократическую альтернативу. В
противном случае это очень
маловероятно. Результаты выборов 12
декабря поставили данный вопрос
ребром. Либеральная публика
(политические практики и идеологи)
испытали шок. Они начали думать,
кое-что пересматривать, но
обдумывают не тот вопрос, который
был сформулирован выше.
![]() 6. Российский либерализм -
этап поиска Идеи
6. Российский либерализм -
этап поиска Идеи
![]() Вскоре после 12
декабря, по свежим следам которого
Е.Гайдар, несмотря на утешения
симпатизирующих комментаторов и
публицистов, имел мужество
заключить: "...выборы мы
проиграли" (54), в российский
либерализм ворвалась тема, которая
до того в лучшем случае едва
обозначалась на его далекой
периферии. Она быстро получила
разные вариации, но суть их была
одна - срочно нужна Идея.
Вскоре после 12
декабря, по свежим следам которого
Е.Гайдар, несмотря на утешения
симпатизирующих комментаторов и
публицистов, имел мужество
заключить: "...выборы мы
проиграли" (54), в российский
либерализм ворвалась тема, которая
до того в лучшем случае едва
обозначалась на его далекой
периферии. Она быстро получила
разные вариации, но суть их была
одна - срочно нужна Идея.
![]() Самокритика
либерализма в части идеологической
(самокритика в области
экономической, социальной и т.д.
особая тема, но примечательно, что,
поскольку в этих областях прежние
подходы рассматривались как в
основном правильные, главный упор
был сделан именно на
идеологическое направление)
выявила следующие ключевые
моменты, объясняющие, с точки
зрения либералов, декабрьское
фиаско.
Самокритика
либерализма в части идеологической
(самокритика в области
экономической, социальной и т.д.
особая тема, но примечательно, что,
поскольку в этих областях прежние
подходы рассматривались как в
основном правильные, главный упор
был сделан именно на
идеологическое направление)
выявила следующие ключевые
моменты, объясняющие, с точки
зрения либералов, декабрьское
фиаско.
![]() Первое. Как
выразила эту мысль М.Салье,
"отсутствие этического
наполнения в деятельности
правительства Гайдара и
соответственно в программе
правительственного блока "Выбор
России" - одна из самых главных,
если не главная ошибка этого блока,
как, впрочем, и всех других блоков,
так или иначе причислявших себя к
демократическим". Это означает,
что либералы не смогли заполнить
"духовный вакуум",
образовавшийся после падения
коммунизма и его идеологии. Лозунг
"Наша цель - свободный рынок"
бессилен решить эту проблему.
Необходима идея, в центре которой
человек, а не рынок (55).
Первое. Как
выразила эту мысль М.Салье,
"отсутствие этического
наполнения в деятельности
правительства Гайдара и
соответственно в программе
правительственного блока "Выбор
России" - одна из самых главных,
если не главная ошибка этого блока,
как, впрочем, и всех других блоков,
так или иначе причислявших себя к
демократическим". Это означает,
что либералы не смогли заполнить
"духовный вакуум",
образовавшийся после падения
коммунизма и его идеологии. Лозунг
"Наша цель - свободный рынок"
бессилен решить эту проблему.
Необходима идея, в центре которой
человек, а не рынок (55).
![]() Второе.
Политически эффективная идеология
не может быть построена на
потребительских ценностях. Дело не
только в том, что в обнищавшей
России они воспринимаются массами,
по выражению Гайдара, как
"издевательство" (56)
(вспомним по контрасту более ранние
соображения либералов об
"идеологии магазинных
прилавков"). Не менее важно (или
более важно?), что такие ценности не
могут сплотить, мобилизовать,
развить деятельную волю слоев, в
пpинципе поддерживающих курс
реформ, побудить их отвергнуть,
возможно, выгодные с точки зрения
ближайших интересов требования
"бюрократических лоббистов".
Меж тем в условиях происходящей
борьбы "мобилизовать... волю
россиян абсолютно необходимо" (57). Третье. Опираясь на частные
интересы, оказывается, в
современной России вообще нельзя
проводить государственную
политику. Вероятно, самый
последовательный российский
монетарист Б.Федоров, став
депутатом Госдумы, обнаружил:
"Граждан России нет... есть только
граждане ВПК, АПК, Метровагонмаша и
иже с ними (видимо, и МММ,
Хопер-инвеста, Олби-дипломата... - Б.К.).
Никто не хочет особенно
конфликтовать; защита России от
развала в прямом и любом другом
смысле не является актуальной" (58).
Второе.
Политически эффективная идеология
не может быть построена на
потребительских ценностях. Дело не
только в том, что в обнищавшей
России они воспринимаются массами,
по выражению Гайдара, как
"издевательство" (56)
(вспомним по контрасту более ранние
соображения либералов об
"идеологии магазинных
прилавков"). Не менее важно (или
более важно?), что такие ценности не
могут сплотить, мобилизовать,
развить деятельную волю слоев, в
пpинципе поддерживающих курс
реформ, побудить их отвергнуть,
возможно, выгодные с точки зрения
ближайших интересов требования
"бюрократических лоббистов".
Меж тем в условиях происходящей
борьбы "мобилизовать... волю
россиян абсолютно необходимо" (57). Третье. Опираясь на частные
интересы, оказывается, в
современной России вообще нельзя
проводить государственную
политику. Вероятно, самый
последовательный российский
монетарист Б.Федоров, став
депутатом Госдумы, обнаружил:
"Граждан России нет... есть только
граждане ВПК, АПК, Метровагонмаша и
иже с ними (видимо, и МММ,
Хопер-инвеста, Олби-дипломата... - Б.К.).
Никто не хочет особенно
конфликтовать; защита России от
развала в прямом и любом другом
смысле не является актуальной" (58).
![]() По этим причинам
российский либерализм как-то вдруг
озаботился ранее совершенно
чуждыми ему проблемами
"сверхидеи", "новой мощной
интегрирующей идеи", "мощной
социальной, политической воли"
и т.п. Без решения этих проблем
"остановить Жириновского" (и
коммунистов) уже не представлялось
возможным.
По этим причинам
российский либерализм как-то вдруг
озаботился ранее совершенно
чуждыми ему проблемами
"сверхидеи", "новой мощной
интегрирующей идеи", "мощной
социальной, политической воли"
и т.п. Без решения этих проблем
"остановить Жириновского" (и
коммунистов) уже не представлялось
возможным.
![]() В опасениях
"постдекабрьских" российских
либералов авторитарного исхода
рыночных реформ можно угадать
эмпирическое нащупывание
"проблемы Гоббса", а в их
рассуждениях о необходимости
мощной мобилизующей идеи -
апелляцию к гражданственности,
увязывающей частный интерес с
общественным. Все это могло бы
привести российский либерализм к
фундаментальному для него
открытию, обусловливающему
пересмотр стратегии реформ: рынок -
не спонтанно возникающая и не
базисная реальность общественной
жизни; сам он определяется и
делается возможным благодаря
некоторым социокультурным
порядкам. Культурно-исторический и
структурно-аналитический подходы
соотносятся не так, что первый
отмечает уникальные черты
отдельной страны, лишь
накладывающие своеобразие на
проявление тех "аналогий между
различными странами на сходных
этапах их развития", которые
обнаруживает второй подход, в силу
чего он имеет приоритет как
инструмент познания и выработки
политического курса (59).
Напротив, культурно-исторический
подход призван раскрыть общую
закономерность обусловленности
становления рыночного порядка
социокультурными факторами, а
затем обнаружить специфику их
содержания и/или способов их
возникновения в той или иной
стране.
В опасениях
"постдекабрьских" российских
либералов авторитарного исхода
рыночных реформ можно угадать
эмпирическое нащупывание
"проблемы Гоббса", а в их
рассуждениях о необходимости
мощной мобилизующей идеи -
апелляцию к гражданственности,
увязывающей частный интерес с
общественным. Все это могло бы
привести российский либерализм к
фундаментальному для него
открытию, обусловливающему
пересмотр стратегии реформ: рынок -
не спонтанно возникающая и не
базисная реальность общественной
жизни; сам он определяется и
делается возможным благодаря
некоторым социокультурным
порядкам. Культурно-исторический и
структурно-аналитический подходы
соотносятся не так, что первый
отмечает уникальные черты
отдельной страны, лишь
накладывающие своеобразие на
проявление тех "аналогий между
различными странами на сходных
этапах их развития", которые
обнаруживает второй подход, в силу
чего он имеет приоритет как
инструмент познания и выработки
политического курса (59).
Напротив, культурно-исторический
подход призван раскрыть общую
закономерность обусловленности
становления рыночного порядка
социокультурными факторами, а
затем обнаружить специфику их
содержания и/или способов их
возникновения в той или иной
стране.
![]() В отношении
Запада, поскольку его опыт не
только в воззрениях отечественных
либералов, но и, так сказать,
"объективно" чрезвычайно
важен для России, это означало бы
понять, как минимум, следующее.
В отношении
Запада, поскольку его опыт не
только в воззрениях отечественных
либералов, но и, так сказать,
"объективно" чрезвычайно
важен для России, это означало бы
понять, как минимум, следующее.
![]() Во-первых, нужно
было бы понять роль в образовании
современного рынка той
"социальной моральности",
которую Ф.Хирш считал
"подструктурой экономического
индивидуализма", видя в ней
"наследие докапиталистического
и доиндустриального прошлого" (60). Наличие и действенность
такой "социальной
моральности" (при всех
фактических нарушениях ее) и
позволяли Локку приходить к
выводам о том, что "личная польза
каждого человека не является
основанием закона природы" (но
это не означает их
несовместимости), что
"нравственность действия не
зависит от пользы, но польза
является результатом
нравственности" (61), т.е.
делать те заключения, которые уже
для раннего утилитаризма просто
невозможны. Во-вторых, следовало бы
уяснить, в чем специфика основных
социокультурных типов людей в
эпоху формирования
институциональной структуры
капиталистического рынка и какую
роль они сыграли в этом процессе.
Речь идет, с одной стороны, о том
самостоятельном и самодеятельном
производителе товаров и услуг,
который выступал "модельным
персонажем" раннего либерализма,
носителем моральной автономии и
политической независимости,
обобщенный образ которого отражен
в трудовой теории стоимости Локка и
его категориальном определении
собственности: "...Каждый человек
обладает некоторой собственностью,
заключающейся в его собственной личности,
на которую никто, кроме него самого,
не имеет никаких прав. Мы можем
сказать, что труд его тела и работа
его рук по самому строгому счету
принадлежат ему" (62). О
том, какое политическое значение
для борьбы за свободу имел этот
социокультурный тип собственника,
можно судить хотя бы по
сознательному выбору
Т.Джефферсоном будущего Америки в
качестве "аграрно-сырьевого
придатка" промышленной Европы,
дабы только сохранить
республиканский дух народа,
коренящийся в этом социокультурном
типе (63). С другой стороны, и
доминировавший в рассматриваемую
эпоху (по исследованиям В.Зомбарта,
вплоть до конца XVIII в.) тип буржуа не
мог быть даже в теоретической
абстракции сведен к homo economicus и
носителю формальной
рациональности (64). И вновь самим
развитием капитализма эти типы
были упразднены или редуцированы к
маргинальности, но каркас
институциональных структур и в
политике, и в экономике был создан
ими. В-третьих, необходимо было бы
раскрыть, какую роль не только в
формировании политической
гражданственности, но и в
институциональном развитии и
системной интеграции
становящегося современным
общества сыграла, пользуясь
терминологией Ю.Хабермаса,
"буржуаз-ная публичная сфера"
кануна и эпохи Просвещения, в
которой частные индивиды
образовывали публику в
результате "публичного
применения своего разума" (65). Позднейшие сужение и эрозия
этой сферы, ее превращение по
преимуществу в сферу производства
образов для "культурного
потребления" и манипуляции
общественным мнением тем не менее
не помешали тому, что важнейшие
продукты раннелиберальной
публичной сферы - идеи и принципы,
сфокусированные на ценностях
свободы, равенства, справедливости,
- продолжают жить в
институциональной организации
западных обществ не только вопреки
господству инструментальной
рациональности, иерархизации и
аккумуляции власти, но и
модифицируя эти тенденции и
явления, адаптируя их к условиям
демократического общежития (66). В-четвертых, необходимо
учитывать роль таких форм
ассоциации людей, как (пользуясь
гегелевскими понятиями)
"сословия" и "корпорации",
которые не только агрегировали,
выражали, отстаивали особенные
совместные интересы их членов, но (и
это первостепенно важно) создавали
возможность гражданского
политического действия, самого
существования "народа" в
отличие от "множества" как
"бесформенной массы". Они
возвышали особенный интерес до
всеобщего, создавали дух, в котором
"содержится непосредственное
укоренение особенного во всеобщем",
причем таким образом, что само
государство выступает
"средством сохранения особенных
целей" (67). Одно из противоречий
гегелевской теории
"современного государства"
состоит в том, что эмпирически
он сам наблюдает "упразднение"
корпораций (во всяком случае, в
прежнем их значении и функциях) в
"новейшее время", меж тем как
именно для порожденных этим
временем условий необходимость
предоставить человеку "кроме его
частной цели и деятельность
всеобщую" теоретически
выступает с особой
настоятельностью (68).
Во-первых, нужно
было бы понять роль в образовании
современного рынка той
"социальной моральности",
которую Ф.Хирш считал
"подструктурой экономического
индивидуализма", видя в ней
"наследие докапиталистического
и доиндустриального прошлого" (60). Наличие и действенность
такой "социальной
моральности" (при всех
фактических нарушениях ее) и
позволяли Локку приходить к
выводам о том, что "личная польза
каждого человека не является
основанием закона природы" (но
это не означает их
несовместимости), что
"нравственность действия не
зависит от пользы, но польза
является результатом
нравственности" (61), т.е.
делать те заключения, которые уже
для раннего утилитаризма просто
невозможны. Во-вторых, следовало бы
уяснить, в чем специфика основных
социокультурных типов людей в
эпоху формирования
институциональной структуры
капиталистического рынка и какую
роль они сыграли в этом процессе.
Речь идет, с одной стороны, о том
самостоятельном и самодеятельном
производителе товаров и услуг,
который выступал "модельным
персонажем" раннего либерализма,
носителем моральной автономии и
политической независимости,
обобщенный образ которого отражен
в трудовой теории стоимости Локка и
его категориальном определении
собственности: "...Каждый человек
обладает некоторой собственностью,
заключающейся в его собственной личности,
на которую никто, кроме него самого,
не имеет никаких прав. Мы можем
сказать, что труд его тела и работа
его рук по самому строгому счету
принадлежат ему" (62). О
том, какое политическое значение
для борьбы за свободу имел этот
социокультурный тип собственника,
можно судить хотя бы по
сознательному выбору
Т.Джефферсоном будущего Америки в
качестве "аграрно-сырьевого
придатка" промышленной Европы,
дабы только сохранить
республиканский дух народа,
коренящийся в этом социокультурном
типе (63). С другой стороны, и
доминировавший в рассматриваемую
эпоху (по исследованиям В.Зомбарта,
вплоть до конца XVIII в.) тип буржуа не
мог быть даже в теоретической
абстракции сведен к homo economicus и
носителю формальной
рациональности (64). И вновь самим
развитием капитализма эти типы
были упразднены или редуцированы к
маргинальности, но каркас
институциональных структур и в
политике, и в экономике был создан
ими. В-третьих, необходимо было бы
раскрыть, какую роль не только в
формировании политической
гражданственности, но и в
институциональном развитии и
системной интеграции
становящегося современным
общества сыграла, пользуясь
терминологией Ю.Хабермаса,
"буржуаз-ная публичная сфера"
кануна и эпохи Просвещения, в
которой частные индивиды
образовывали публику в
результате "публичного
применения своего разума" (65). Позднейшие сужение и эрозия
этой сферы, ее превращение по
преимуществу в сферу производства
образов для "культурного
потребления" и манипуляции
общественным мнением тем не менее
не помешали тому, что важнейшие
продукты раннелиберальной
публичной сферы - идеи и принципы,
сфокусированные на ценностях
свободы, равенства, справедливости,
- продолжают жить в
институциональной организации
западных обществ не только вопреки
господству инструментальной
рациональности, иерархизации и
аккумуляции власти, но и
модифицируя эти тенденции и
явления, адаптируя их к условиям
демократического общежития (66). В-четвертых, необходимо
учитывать роль таких форм
ассоциации людей, как (пользуясь
гегелевскими понятиями)
"сословия" и "корпорации",
которые не только агрегировали,
выражали, отстаивали особенные
совместные интересы их членов, но (и
это первостепенно важно) создавали
возможность гражданского
политического действия, самого
существования "народа" в
отличие от "множества" как
"бесформенной массы". Они
возвышали особенный интерес до
всеобщего, создавали дух, в котором
"содержится непосредственное
укоренение особенного во всеобщем",
причем таким образом, что само
государство выступает
"средством сохранения особенных
целей" (67). Одно из противоречий
гегелевской теории
"современного государства"
состоит в том, что эмпирически
он сам наблюдает "упразднение"
корпораций (во всяком случае, в
прежнем их значении и функциях) в
"новейшее время", меж тем как
именно для порожденных этим
временем условий необходимость
предоставить человеку "кроме его
частной цели и деятельность
всеобщую" теоретически
выступает с особой
настоятельностью (68).
![]() Есть ли в
нынешней России эти или адекватные
им культурно-исторические
предпосылки? Могут ли они чем-то
быть компенсированы? Ответы на эти
вопросы требуют теоретического
новаторства и практического
экспериментирования: необходимо
обнаружить специфически
российский способ осуществления
определенной универсальной
закономерности. И именно здесь
"постдекабрьский" российский
либерализм обнаруживает свою
главную слабость.
Есть ли в
нынешней России эти или адекватные
им культурно-исторические
предпосылки? Могут ли они чем-то
быть компенсированы? Ответы на эти
вопросы требуют теоретического
новаторства и практического
экспериментирования: необходимо
обнаружить специфически
российский способ осуществления
определенной универсальной
закономерности. И именно здесь
"постдекабрьский" российский
либерализм обнаруживает свою
главную слабость.
![]() В высшей мере
показательным в этом отношении
представляется доклад Е.Гайдара на
учредительном съезде партии
Демократический выбор России в
июне 1994 г., который можно считать
классическим проявлением
"постдекабрьского"
российского либерализма.
В высшей мере
показательным в этом отношении
представляется доклад Е.Гайдара на
учредительном съезде партии
Демократический выбор России в
июне 1994 г., который можно считать
классическим проявлением
"постдекабрьского"
российского либерализма.
![]() С одной стороны,
Гайдар достаточно точно фиксирует
центральное противоречие
современного этапа российского
развития: "У государства уже нет
сил для того, чтобы обеспечить
экономический рост (может быть,
вернее сказать о социальном
возрождении в целом? - Б.К.), у
общества еще нет предпосылок для
того, чтобы генерировать этот рост
из себя" (69). В числе таких
важнейших отсутствующих
предпосылок называются традиции
правопорядка в условиях
демократии, культурные традиции,
"оправдывающие" отношения
частной собственности, привычки к
общественной самоорганизации,
устойчивые социальные структуры...
Каким же образом разрешить это
противоречие? Что для этого нужно
понять и как действовать?
С одной стороны,
Гайдар достаточно точно фиксирует
центральное противоречие
современного этапа российского
развития: "У государства уже нет
сил для того, чтобы обеспечить
экономический рост (может быть,
вернее сказать о социальном
возрождении в целом? - Б.К.), у
общества еще нет предпосылок для
того, чтобы генерировать этот рост
из себя" (69). В числе таких
важнейших отсутствующих
предпосылок называются традиции
правопорядка в условиях
демократии, культурные традиции,
"оправдывающие" отношения
частной собственности, привычки к
общественной самоорганизации,
устойчивые социальные структуры...
Каким же образом разрешить это
противоречие? Что для этого нужно
понять и как действовать?
![]() С другой стороны,
оказывается, ничего нового
понимать не нужно.
"Компоненты" возможного в
России "экономического чуда",
которое само есть дело вполне
"технологическое",
"достаточно ясны и очевидны. Они
очень просты: стабильность
национальной валюты, стабильность
порядка и права, открытость
экономики, низкие военные расходы,
высокие частные инвестиции и т.д"
(70). Все это настолько очевидно и
так давно известно, что едва ли
нуждается в повторении. Остаются
лишь некоторые вопросы. Почему все
эти очевидности не удалось
реализовать за три года после
падения коммунизма, в том числе за
период пребывания самого Гайдара
руководителем правительства? Как
связано осуществление всех этих
"компонентов" с созданием тех
культурно-политических
предпосылок, отсутствие которых и
обусловило зафиксированное
Гайдаром центральное противоречие
российской жизни? Самое
поразительное для политического
доклада - отсутствие какого-либо
намека на то, кто (т.е. какие
группы, силы, слои...) будет
реализовывать эти
"компоненты" или хотя бы
заинтересован в такой pеализации.
Об этом особенно важно было бы
узнать, учитывая многократно
подчеркнутые Гайдаром
неэффективность и
недееспособность российского
государства, из чего ясно: этим
делом оно в любом случае (т.е. и в
случае прихода к власти
Демократического выбора России)
заниматься просто не сможет.
С другой стороны,
оказывается, ничего нового
понимать не нужно.
"Компоненты" возможного в
России "экономического чуда",
которое само есть дело вполне
"технологическое",
"достаточно ясны и очевидны. Они
очень просты: стабильность
национальной валюты, стабильность
порядка и права, открытость
экономики, низкие военные расходы,
высокие частные инвестиции и т.д"
(70). Все это настолько очевидно и
так давно известно, что едва ли
нуждается в повторении. Остаются
лишь некоторые вопросы. Почему все
эти очевидности не удалось
реализовать за три года после
падения коммунизма, в том числе за
период пребывания самого Гайдара
руководителем правительства? Как
связано осуществление всех этих
"компонентов" с созданием тех
культурно-политических
предпосылок, отсутствие которых и
обусловило зафиксированное
Гайдаром центральное противоречие
российской жизни? Самое
поразительное для политического
доклада - отсутствие какого-либо
намека на то, кто (т.е. какие
группы, силы, слои...) будет
реализовывать эти
"компоненты" или хотя бы
заинтересован в такой pеализации.
Об этом особенно важно было бы
узнать, учитывая многократно
подчеркнутые Гайдаром
неэффективность и
недееспособность российского
государства, из чего ясно: этим
делом оно в любом случае (т.е. и в
случае прихода к власти
Демократического выбора России)
заниматься просто не сможет.
![]() Впечатляющей
выглядит и стратегия действий
российских либералов.
Многообразным и "испытанным"
приемам действий противников
реформ они противопоставляют одно:
просвещение народа. Гайдаp заявил:
"Мы можем противопоставить этому
(оружию противника. - Б.К.) только
одно - правду. Но для того, чтобы
донести эту правду до российского
общества... для того, чтобы она не
осталась только нашей правдой, а
стала правдой общества, нам нужна
эффективная сильная серьезная
политическая организация. Именно
для этого мы и создаемся.
(Аплодисменты)" (71).
Впечатляющей
выглядит и стратегия действий
российских либералов.
Многообразным и "испытанным"
приемам действий противников
реформ они противопоставляют одно:
просвещение народа. Гайдаp заявил:
"Мы можем противопоставить этому
(оружию противника. - Б.К.) только
одно - правду. Но для того, чтобы
донести эту правду до российского
общества... для того, чтобы она не
осталась только нашей правдой, а
стала правдой общества, нам нужна
эффективная сильная серьезная
политическая организация. Именно
для этого мы и создаемся.
(Аплодисменты)" (71).
![]() Оказывается, та
"мощная интегральная Идея", о
которой заговорили либералы после
декабря 1993 г., вовсе не мыслится
обладающей конструктивистской
функцией, описанной в начале
данного эссе. Она вообще не
мыслится социологически. Эта Идея -
лишь сумма банальных очевидностей,
которые нужно втолковать,
используя "серьезную
политическую организацию", не
разумеющим своего блага россиянам.
Оказывается, та
"мощная интегральная Идея", о
которой заговорили либералы после
декабря 1993 г., вовсе не мыслится
обладающей конструктивистской
функцией, описанной в начале
данного эссе. Она вообще не
мыслится социологически. Эта Идея -
лишь сумма банальных очевидностей,
которые нужно втолковать,
используя "серьезную
политическую организацию", не
разумеющим своего блага россиянам.
![]() Действительно,
нельзя сказать, чтобы такая
стратегия была оригинальной. Более
того, ее тщательнейшим образом
"обкатал" еще XVIII век, потому и
названный веком Просвещения.
Пожалуй, наиболее известным
усилием в этом направлении была
попытка Д.Дидро убедить своего
воображаемого оппонента -
"жестокого мыслителя"
(пришедшего к выводу, что
рациональный эгоизм требует лишать
жизни тех, кто противится его
счастью, но в то же время признать
за другими право при возможности
покончить с ним самим) в
необходимости согласования его
частной воли с "общей волей"
других. Такое согласование
отвечает собственным, но правильно
понятым интересам самого
"жестокого мыслителя".
Достигается же оно (т.е. общая воля
выявляется) "чистым актом разума,
который размышляет, меж тем как
страсти молчат..." (72)
Правда, Дидро не пришел к пониманию
того, что в подобных размышлениях
должна помочь "серьезная
политическая организация".
Действительно,
нельзя сказать, чтобы такая
стратегия была оригинальной. Более
того, ее тщательнейшим образом
"обкатал" еще XVIII век, потому и
названный веком Просвещения.
Пожалуй, наиболее известным
усилием в этом направлении была
попытка Д.Дидро убедить своего
воображаемого оппонента -
"жестокого мыслителя"
(пришедшего к выводу, что
рациональный эгоизм требует лишать
жизни тех, кто противится его
счастью, но в то же время признать
за другими право при возможности
покончить с ним самим) в
необходимости согласования его
частной воли с "общей волей"
других. Такое согласование
отвечает собственным, но правильно
понятым интересам самого
"жестокого мыслителя".
Достигается же оно (т.е. общая воля
выявляется) "чистым актом разума,
который размышляет, меж тем как
страсти молчат..." (72)
Правда, Дидро не пришел к пониманию
того, что в подобных размышлениях
должна помочь "серьезная
политическая организация".
![]() Однако уже
современник Дидро Ж.-Ж.Руссо выявил
другую и, как представляется, более
существенную слабость приведенных
выше рассуждений. Дело в том, что
страсти не могут молчать, даже
когда размышляет разум. У Руссо тот
же "жестокий мыслитель"
("независимый человек") на
призыв согласовывать его частную
волю с "общей волей" отвечает:
"Прекрасно вижу и признаю, что
это - тот принцип, с которым могу я
сообразоваться; но я не вижу еще...
причины, по которой я должен
подчиняться этому принципу. Дело не
в том, чтобы научить меня тому, что
есть справедливость, дело в том,
чтобы показать, какая польза для
меня в том, чтобы быть
справедливым". Неясно именно то,
"почему его личная выгода
требует, чтобы он подчинился общей
воле?" (73) И это был теоретический конец
Просвещения, наступивший задолго
до его
"практико-политического"
конца. Однако Россия, как видим, и
здесь исключение. Своей полемикой с
Дидро Руссо показал "всего
лишь": если человек
руководствуется только частным
интересом и (инструментальным)
разумом и если моральные чувства и
законы нельзя считать
"врожденными" и полагаться на
их "прямодействие" (а если
можно, то не нужны и
"наставления", и вся проблема
пропадает как таковая (74)), то
установить правопорядок,
обеспечивающий равную свободу
каждому, невозможно. Вернее,
возможно, но только путем того, что
человек, оставаясь частным лицом с
особой волей, обретает новую
ипостась своего бытия, т.е.
становится гражданином, который
обладает "общей волей" (75).
Однако уже
современник Дидро Ж.-Ж.Руссо выявил
другую и, как представляется, более
существенную слабость приведенных
выше рассуждений. Дело в том, что
страсти не могут молчать, даже
когда размышляет разум. У Руссо тот
же "жестокий мыслитель"
("независимый человек") на
призыв согласовывать его частную
волю с "общей волей" отвечает:
"Прекрасно вижу и признаю, что
это - тот принцип, с которым могу я
сообразоваться; но я не вижу еще...
причины, по которой я должен
подчиняться этому принципу. Дело не
в том, чтобы научить меня тому, что
есть справедливость, дело в том,
чтобы показать, какая польза для
меня в том, чтобы быть
справедливым". Неясно именно то,
"почему его личная выгода
требует, чтобы он подчинился общей
воле?" (73) И это был теоретический конец
Просвещения, наступивший задолго
до его
"практико-политического"
конца. Однако Россия, как видим, и
здесь исключение. Своей полемикой с
Дидро Руссо показал "всего
лишь": если человек
руководствуется только частным
интересом и (инструментальным)
разумом и если моральные чувства и
законы нельзя считать
"врожденными" и полагаться на
их "прямодействие" (а если
можно, то не нужны и
"наставления", и вся проблема
пропадает как таковая (74)), то
установить правопорядок,
обеспечивающий равную свободу
каждому, невозможно. Вернее,
возможно, но только путем того, что
человек, оставаясь частным лицом с
особой волей, обретает новую
ипостась своего бытия, т.е.
становится гражданином, который
обладает "общей волей" (75).
![]() Описываемые
Руссо способы обретения человеком
этой гражданской ипостаси (т.е. сам
"общественный договор" с
необходимой ролью богоравного
Законодателя) и методы устранения
возможных сбоев в этом деле (т.е.
знаменитое принуждение силой
"быть свободным" (76))
всегда представлялись либералам и
нереальными, и порочными в
нравственно-политическом
отношении. В этом они правы, но
нельзя упускать следующее: Руссо
пытается осмыслить ту предельную
современную ситуацию, в которой
недопустимо брать за
"данность" и
"самоочевидность"
культурно-исторические
предпосылки, и прежде всего
нравственную "инфраструктуру"
общества, обеспечивавшие
избавление от "проблемы
Гоббса" для таких либералов, как
Локк или Смит. В таком способе постановки
проблемы создания правопорядка
свободы, но не в ее решении -
релевантность Руссо для нынешней
российской ситуации. Значимы и
общая направленность поиска
ответов - "выработка"
гражданского измерения
существования человека и общества,
- и предупреждение: упования на
просвещение, на молчание страстей
при размышлениях разума иллюзорны.
Какой же может быть логика поиска
стратегии "выработки"
гражданского измерения в подобной
ситуации, если "просветительский
вариант" заведомо обречен?
Описываемые
Руссо способы обретения человеком
этой гражданской ипостаси (т.е. сам
"общественный договор" с
необходимой ролью богоравного
Законодателя) и методы устранения
возможных сбоев в этом деле (т.е.
знаменитое принуждение силой
"быть свободным" (76))
всегда представлялись либералам и
нереальными, и порочными в
нравственно-политическом
отношении. В этом они правы, но
нельзя упускать следующее: Руссо
пытается осмыслить ту предельную
современную ситуацию, в которой
недопустимо брать за
"данность" и
"самоочевидность"
культурно-исторические
предпосылки, и прежде всего
нравственную "инфраструктуру"
общества, обеспечивавшие
избавление от "проблемы
Гоббса" для таких либералов, как
Локк или Смит. В таком способе постановки
проблемы создания правопорядка
свободы, но не в ее решении -
релевантность Руссо для нынешней
российской ситуации. Значимы и
общая направленность поиска
ответов - "выработка"
гражданского измерения
существования человека и общества,
- и предупреждение: упования на
просвещение, на молчание страстей
при размышлениях разума иллюзорны.
Какой же может быть логика поиска
стратегии "выработки"
гражданского измерения в подобной
ситуации, если "просветительский
вариант" заведомо обречен?
![]() 7. Поиск политической
стратегии либерализма
7. Поиск политической
стратегии либерализма
![]() Первый шаг на
этом пути целесообразно сделать
вместе с И.Кантом. Именно его
дихотомия ноуменального и
феноменального миров,
"чувствуемой и усматриваемой
необходимости" позволяет войти в
проблематику ситуации, в которой
нравственное долженствование не
является не только детерминантой,
но и само собой разумеющейся
составляющей наблюдаемого
поведения социальных действующих
лиц. Ведь законы, даваемые разумом
("законы свободы"),
"указывают, что должно
происходить, хотя, быть может,
никогда не происходит" (77). Поэтому к политике, целиком
находящейся в феноменальном мире,
оправдан подход, общей презумпцией
которого является практическое
бессилие общей воли, имеющей свою
основу в разуме.
Первый шаг на
этом пути целесообразно сделать
вместе с И.Кантом. Именно его
дихотомия ноуменального и
феноменального миров,
"чувствуемой и усматриваемой
необходимости" позволяет войти в
проблематику ситуации, в которой
нравственное долженствование не
является не только детерминантой,
но и само собой разумеющейся
составляющей наблюдаемого
поведения социальных действующих
лиц. Ведь законы, даваемые разумом
("законы свободы"),
"указывают, что должно
происходить, хотя, быть может,
никогда не происходит" (77). Поэтому к политике, целиком
находящейся в феноменальном мире,
оправдан подход, общей презумпцией
которого является практическое
бессилие общей воли, имеющей свою
основу в разуме.
![]() Возможно ли в
этих условиях создание
общественного порядка, который бы
обеспечивал правовую
("внешнюю") свободу человека?
Да, отвечает Кант, если подходить к
решению этого вопроса как к
использованию "механизма
природы" применительно к людям, а
не как к делу их "морального
совершенствования". Проблема
хорошо устроенного государства
разрешима даже для "дьяволов"
(если они обладают рассудком). Для
этого нужно "так организовать их
устройство, чтобы, несмотря на
столкновения их личных
устремлений, последние настолько
парализовали друг друга, чтобы в
публичном поведении людей
результат был таким, как если бы они
не имели подобных злых
устремлений" (78).
Следовательно, суть первого шага в
том, чтобы создать такую систему
равновесия сил "дьяволов", в
которой они сдерживали бы друг
друга, взаимно не позволяя творить
зло при преследовании собственных
эгоистических интересов.
Возможно ли в
этих условиях создание
общественного порядка, который бы
обеспечивал правовую
("внешнюю") свободу человека?
Да, отвечает Кант, если подходить к
решению этого вопроса как к
использованию "механизма
природы" применительно к людям, а
не как к делу их "морального
совершенствования". Проблема
хорошо устроенного государства
разрешима даже для "дьяволов"
(если они обладают рассудком). Для
этого нужно "так организовать их
устройство, чтобы, несмотря на
столкновения их личных
устремлений, последние настолько
парализовали друг друга, чтобы в
публичном поведении людей
результат был таким, как если бы они
не имели подобных злых
устремлений" (78).
Следовательно, суть первого шага в
том, чтобы создать такую систему
равновесия сил "дьяволов", в
которой они сдерживали бы друг
друга, взаимно не позволяя творить
зло при преследовании собственных
эгоистических интересов.
![]() Абстрактно
говоря, такое положение, если под
"дьяволами" понимать в первую
очередь элитные группировки,
реально способные творить
социальное зло, должно было бы
привести к выработке ими некоторых
взаимоприемлемых "правил
игры" как основы упорядоченных
политических процедур и правовых
взаимоотношений. В терминах
современного обществоведения
такое действие именуется
"пактом" ключевых
политических акторов и
рассматривается в качестве важной
или даже предпочтительной формы
начала процесса строительства
правового и демократического
государства (79). Политический
опыт свидетельствует, что в ряде
стран, расстававшихся с
авторитаризмом, процесс шел именно
таким путем, хотя в каждом случае
вставал вопрос о конкретных
факторах, способствовавших
склонности элитных группировок к
компромиссам, стабилизации их
взаимоотношений и, главное,
обязательности выполнения ими
достигнутых соглашений. В этом
плане неоднократно отмечалась роль
давления "низов", хотя в тех
или иных случаях оно оказывалось
контрпродуктивным. Однако ситуация
в России представляется более
сложной, вновь приближающейся к
предельным теоретическим
вариантам. Отвлекаясь от других
факторов, отмечу один, имеющий
здесь центральное значение.
Абстрактно
говоря, такое положение, если под
"дьяволами" понимать в первую
очередь элитные группировки,
реально способные творить
социальное зло, должно было бы
привести к выработке ими некоторых
взаимоприемлемых "правил
игры" как основы упорядоченных
политических процедур и правовых
взаимоотношений. В терминах
современного обществоведения
такое действие именуется
"пактом" ключевых
политических акторов и
рассматривается в качестве важной
или даже предпочтительной формы
начала процесса строительства
правового и демократического
государства (79). Политический
опыт свидетельствует, что в ряде
стран, расстававшихся с
авторитаризмом, процесс шел именно
таким путем, хотя в каждом случае
вставал вопрос о конкретных
факторах, способствовавших
склонности элитных группировок к
компромиссам, стабилизации их
взаимоотношений и, главное,
обязательности выполнения ими
достигнутых соглашений. В этом
плане неоднократно отмечалась роль
давления "низов", хотя в тех
или иных случаях оно оказывалось
контрпродуктивным. Однако ситуация
в России представляется более
сложной, вновь приближающейся к
предельным теоретическим
вариантам. Отвлекаясь от других
факторов, отмечу один, имеющий
здесь центральное значение.
![]() "Пакт"
подразумевает частичную
"деприватизацию" государства,
по крайней мере в смысле слома его
узурпации частным интересом
властвующей авторитарной клики или
расширения круга контролирующих
его интересов. Но в России
превращение государства в
пространство публичного действия
(в отличие от того, чем оно является
сейчас, а именно сферой, в которой
частные интересы реализуются с
помощью особо сильнодействующих
средств) крайне затруднено. Одним
из нежелательных следствий развала
коммунистического строя было то,
что власть, пользуясь выражением
Х.Арендт, оказалась в руках лиц и
группировок в "их частном
качестве, и не было пространства,
установленного для них в качестве
граждан" (80). Государство
подверглось колонизации со стороны
частных интересов и разделу на
сферы их влияния, что уже делает
невозможным институциональное
разделение властей.
"Пакт"
подразумевает частичную
"деприватизацию" государства,
по крайней мере в смысле слома его
узурпации частным интересом
властвующей авторитарной клики или
расширения круга контролирующих
его интересов. Но в России
превращение государства в
пространство публичного действия
(в отличие от того, чем оно является
сейчас, а именно сферой, в которой
частные интересы реализуются с
помощью особо сильнодействующих
средств) крайне затруднено. Одним
из нежелательных следствий развала
коммунистического строя было то,
что власть, пользуясь выражением
Х.Арендт, оказалась в руках лиц и
группировок в "их частном
качестве, и не было пространства,
установленного для них в качестве
граждан" (80). Государство
подверглось колонизации со стороны
частных интересов и разделу на
сферы их влияния, что уже делает
невозможным институциональное
разделение властей.
![]() При таком
положении само собой происходящее
установление равновесия частных
интересов "дьяволов"
маловероятно или затянется на
столь долгий сpок, что распад
государственности может стать
не-обратимым. Поэтому трудно
разделить оптимистическую
телеологию Канта, утверждавшего,
что "природа неодолимо хочет,
чтобы право получило в конце концов
верховную власть. То, что в этом
отношении не сделано, совершится в
конце концов само собой, хотя и с
большими трудностями" (81).
При таком
положении само собой происходящее
установление равновесия частных
интересов "дьяволов"
маловероятно или затянется на
столь долгий сpок, что распад
государственности может стать
не-обратимым. Поэтому трудно
разделить оптимистическую
телеологию Канта, утверждавшего,
что "природа неодолимо хочет,
чтобы право получило в конце концов
верховную власть. То, что в этом
отношении не сделано, совершится в
конце концов само собой, хотя и с
большими трудностями" (81).
![]() Если сама собой,
в соответствии с желанием природы
данная проблема неразрешима,
следовательно, необходимо
политическое действие. Здесь
должно произойти "вторжение
эмпирики" в логику
либерально-демократической
реформации России и ее эксперимент.
Здесь же - первое обнаружение
"конструктивистской" функции
идеи.
Если сама собой,
в соответствии с желанием природы
данная проблема неразрешима,
следовательно, необходимо
политическое действие. Здесь
должно произойти "вторжение
эмпирики" в логику
либерально-демократической
реформации России и ее эксперимент.
Здесь же - первое обнаружение
"конструктивистской" функции
идеи.
![]() "Вторжение
эмпирики" необходимо потому, что логически
равновесие частных интересов
невыводимо из их взаимной борьбы.
Как показал еще Руссо в полемике с
Гоббсом, из "частной войны"
человека с человеком логически
выводятся только отношения
господина и раба, но отнюдь не
правителя и граждан (82). С
точки зрения этой логики
равновесие частных интересов есть
нечто случайное, возникающее в
силу специфических обстоятельств.
Задача в том, чтобы следствия
такого случайного стечения
специфических обстоятельств
превратить в закономерность
следующего этапа общественной
жизни, институционально закрепив
их.
"Вторжение
эмпирики" необходимо потому, что логически
равновесие частных интересов
невыводимо из их взаимной борьбы.
Как показал еще Руссо в полемике с
Гоббсом, из "частной войны"
человека с человеком логически
выводятся только отношения
господина и раба, но отнюдь не
правителя и граждан (82). С
точки зрения этой логики
равновесие частных интересов есть
нечто случайное, возникающее в
силу специфических обстоятельств.
Задача в том, чтобы следствия
такого случайного стечения
специфических обстоятельств
превратить в закономерность
следующего этапа общественной
жизни, институционально закрепив
их.
![]() "Конструктивистская"
функция идеи проявляется здесь в
том, чтобы, во-первых, раскрыть
возможность такого превращения и
представить ее людям, прежде всего
"низам", как цель;
во-вторых, понять конкретные
условия создания ситуации
равновесия в данный период в данной
стране (какие элитные группы и по
каким вопросам ведут борьбу, каковы
применяемые в ней средства и
соотношение сил, как можно влиять
на ход этой борьбы в целях
достижения равновесия) и показать
"низам" возможные методы их
воздействия на положение элит во
имя достижения такой формы
компромисса, которая открывала бы
перспективу дальнейшей
демократизации; в-третьих,
обеспечить идеологические
механизмы политической
мобилизации "низов" ради
достижения указанной цели.
"Конструктивистская"
функция идеи проявляется здесь в
том, чтобы, во-первых, раскрыть
возможность такого превращения и
представить ее людям, прежде всего
"низам", как цель;
во-вторых, понять конкретные
условия создания ситуации
равновесия в данный период в данной
стране (какие элитные группы и по
каким вопросам ведут борьбу, каковы
применяемые в ней средства и
соотношение сил, как можно влиять
на ход этой борьбы в целях
достижения равновесия) и показать
"низам" возможные методы их
воздействия на положение элит во
имя достижения такой формы
компромисса, которая открывала бы
перспективу дальнейшей
демократизации; в-третьих,
обеспечить идеологические
механизмы политической
мобилизации "низов" ради
достижения указанной цели.
![]() Экспериментальность
данного предприятия заключается в
том, что необходимо добиться
достаточно эффективного, но не
срывающегося в "бунт черни"
воздействия "низов" на элитные
группировки при крайне слабом
развитии структур гражданского
общества и, более того, их
подавлении ходом происходящих
экономических и (анти) культурных
процессов. Экспериментальность
обусловливается и другой
необходимостью: сделать акции
элитных группировок в сфере
государственности хотя бы
минимально видимыми широкой
публике в условиях эффективной
блокировки информационных каналов
и практически полной
недееспособности судебной власти,
не говоря уже о фактическом
отсутствии ряда ее ключевых
звеньев (чего стоит хотя бы то, что
ни одно крупное "дело",
привлекшее общественное внимание,
начиная с августовского путча и
"дел" Тарасова и Фильшина и
вплоть до октябрьской трагедии и
обвинений в адрес А.Руцкого, не было
доведено до оглашения официального
вердикта).
Экспериментальность
данного предприятия заключается в
том, что необходимо добиться
достаточно эффективного, но не
срывающегося в "бунт черни"
воздействия "низов" на элитные
группировки при крайне слабом
развитии структур гражданского
общества и, более того, их
подавлении ходом происходящих
экономических и (анти) культурных
процессов. Экспериментальность
обусловливается и другой
необходимостью: сделать акции
элитных группировок в сфере
государственности хотя бы
минимально видимыми широкой
публике в условиях эффективной
блокировки информационных каналов
и практически полной
недееспособности судебной власти,
не говоря уже о фактическом
отсутствии ряда ее ключевых
звеньев (чего стоит хотя бы то, что
ни одно крупное "дело",
привлекшее общественное внимание,
начиная с августовского путча и
"дел" Тарасова и Фильшина и
вплоть до октябрьской трагедии и
обвинений в адрес А.Руцкого, не было
доведено до оглашения официального
вердикта).
![]() Верно ли сказать,
что неблагоприятные условия и
невыводимость из существующей
теории форм проведения такого
эксперимента делают его заведомо
обреченным? Думаю, что нет.
Достоверность прогнозов
базируется обычно на инерционности
отслеживаемых процессов, меж тем
как в данном случае речь идет как
раз о творческом создании таких
условий, которые нарушают и без
того не слишком устоявшийся
инерционный ход дел.
Верно ли сказать,
что неблагоприятные условия и
невыводимость из существующей
теории форм проведения такого
эксперимента делают его заведомо
обреченным? Думаю, что нет.
Достоверность прогнозов
базируется обычно на инерционности
отслеживаемых процессов, меж тем
как в данном случае речь идет как
раз о творческом создании таких
условий, которые нарушают и без
того не слишком устоявшийся
инерционный ход дел.
![]() Разве слом
коммунистических режимов давал
более благоприятные
обстоятельства для
демократического политического
действия? Разве в тот период не были
новаторски придуманы и созданы
альтернативные официальным каналы
информации, токи по которым
превращали задавленную
атомизированную массу в
политически дееспособный народ?
Разве жалкое состояние
"экономического" гражданского
общества не было компенсировано
тем "моральным" гражданским
обществом, которое получило (пусть
на непродолжительный, но
политически решающий период) свои
наиболее зрелые воплощения в
польской "Солидарности",
чешском "Гражданском форуме",
литовском "Саюдисе"... Ничего
этого научной теорией
предусмотрено не было и не могло
быть предусмотрено. Потому и
горький упрек ей, брошенный
А.Пжеворским - "осень народов (1989
г. - Б.К.) явилась
обескураживающим провалом
политической науки" (83) -
есть, конечно, верная констатация
факта, но ложное обвинение в
отсутствии у науки той способности,
которой она в принципе не может
обладать в ситуациях
народотворческого процесса
"смены парадигм"
общественного развития. Априорный
отказ от эксперимента,
обосновываемый его "научно"
доказываемой невозможностью, есть
результат не собственно научного
анализа общественной жизни (ибо он,
сохраняя верность опыту истории,
должен был бы по крайней мере
предсказать возможность
возникновения непредсказуемых
ситуаций), а определенной
социальной позиции и роли
интеллектуалов, которые можно
охарактеризовать как
предательство "шанса свободы",
учитывая ключевое значение
интеллигенции в создании условий
для эксперимента и его проведении.
Речь идет о редукции интеллигенции
к позиции и роли эксперта и утрате
ею способа бытия социального
деятеля.
Разве слом
коммунистических режимов давал
более благоприятные
обстоятельства для
демократического политического
действия? Разве в тот период не были
новаторски придуманы и созданы
альтернативные официальным каналы
информации, токи по которым
превращали задавленную
атомизированную массу в
политически дееспособный народ?
Разве жалкое состояние
"экономического" гражданского
общества не было компенсировано
тем "моральным" гражданским
обществом, которое получило (пусть
на непродолжительный, но
политически решающий период) свои
наиболее зрелые воплощения в
польской "Солидарности",
чешском "Гражданском форуме",
литовском "Саюдисе"... Ничего
этого научной теорией
предусмотрено не было и не могло
быть предусмотрено. Потому и
горький упрек ей, брошенный
А.Пжеворским - "осень народов (1989
г. - Б.К.) явилась
обескураживающим провалом
политической науки" (83) -
есть, конечно, верная констатация
факта, но ложное обвинение в
отсутствии у науки той способности,
которой она в принципе не может
обладать в ситуациях
народотворческого процесса
"смены парадигм"
общественного развития. Априорный
отказ от эксперимента,
обосновываемый его "научно"
доказываемой невозможностью, есть
результат не собственно научного
анализа общественной жизни (ибо он,
сохраняя верность опыту истории,
должен был бы по крайней мере
предсказать возможность
возникновения непредсказуемых
ситуаций), а определенной
социальной позиции и роли
интеллектуалов, которые можно
охарактеризовать как
предательство "шанса свободы",
учитывая ключевое значение
интеллигенции в создании условий
для эксперимента и его проведении.
Речь идет о редукции интеллигенции
к позиции и роли эксперта и утрате
ею способа бытия социального
деятеля.
![]() Драматизм
нынешней российской ситуации
заключается в порочном круге,
образуемом апатией и экспертными
доказательствами интеллектуалов
невозможности нового
демократического эксперимента,
тогда как его действительная
невозможность обусловлена прежде
всего этой апатией и редукцией
ведущей части интеллектуалов к
позиции и роли эксперта. Без
восстановления интеллигенцией
функции социального деятеля, как
это она неоднократно делала в
российской истории, в том числе и
недавней, эксперимент не состоится.
Драматизм
нынешней российской ситуации
заключается в порочном круге,
образуемом апатией и экспертными
доказательствами интеллектуалов
невозможности нового
демократического эксперимента,
тогда как его действительная
невозможность обусловлена прежде
всего этой апатией и редукцией
ведущей части интеллектуалов к
позиции и роли эксперта. Без
восстановления интеллигенцией
функции социального деятеля, как
это она неоднократно делала в
российской истории, в том числе и
недавней, эксперимент не состоится.
![]() Последующие шаги
на пути к
либерально-демократическому строю
возможны в той мере и тогда, в какой
и когда сделан первый шаг. В отличие
от него они дедуцируемы
теоретически и, поскольку такая
дедукция должна быть ясна из всего
предыдущего изложения, в данном
месте можно ограничиться лишь
резюмированием существа дела.
Главным политическим следствием
первого шага является установление
равновесия сил "дьяволов". Они
тем самым (вспомним Канта)
парализуют друг друга. Это
состояние парализации есть искомый
политический кризис, но, так
сказать, не "объективный",
описываемый в терминах распада
государственных структур,
недееспособности органов
управления, столкновения
властвующих групп и т.д. - все это
может быть безразлично для
"дьяволов" или даже
соответствовать их интересам. Речь
идет о "субъективном" кризисе,
т.е. о таком, который осознается
"дьяволами" как невозможность
удовлетворения их эгоизмов
какими-либо способами, пока
сохраняется прежняя форма их
взаимоотношений. Имеются в виду не
институты и законы, ибо они, будучи
"приватизированы", не имеют
самостоятельного значения, а та
форма, в которой частные интересы
выступают только как частные
интересы без опосредований и
выражений в чем-то ином, что
позволяет так регулировать их
конфликт, чтобы они могли
осуществляться, а не быть
парализованными.
Последующие шаги
на пути к
либерально-демократическому строю
возможны в той мере и тогда, в какой
и когда сделан первый шаг. В отличие
от него они дедуцируемы
теоретически и, поскольку такая
дедукция должна быть ясна из всего
предыдущего изложения, в данном
месте можно ограничиться лишь
резюмированием существа дела.
Главным политическим следствием
первого шага является установление
равновесия сил "дьяволов". Они
тем самым (вспомним Канта)
парализуют друг друга. Это
состояние парализации есть искомый
политический кризис, но, так
сказать, не "объективный",
описываемый в терминах распада
государственных структур,
недееспособности органов
управления, столкновения
властвующих групп и т.д. - все это
может быть безразлично для
"дьяволов" или даже
соответствовать их интересам. Речь
идет о "субъективном" кризисе,
т.е. о таком, который осознается
"дьяволами" как невозможность
удовлетворения их эгоизмов
какими-либо способами, пока
сохраняется прежняя форма их
взаимоотношений. Имеются в виду не
институты и законы, ибо они, будучи
"приватизированы", не имеют
самостоятельного значения, а та
форма, в которой частные интересы
выступают только как частные
интересы без опосредований и
выражений в чем-то ином, что
позволяет так регулировать их
конфликт, чтобы они могли
осуществляться, а не быть
парализованными.
![]() Такой
политический кризис вызывает
субъективное стремление
"дьяволов" изменить форму их
взаимоотношений, перевести
конфликт в иную плоскость, в
которой данный частный интерес
соотносился бы с некоторыми
всеобщими условиями реализации
частных интересов вообще, в том
числе и данного. Но это и есть ответ
на вопрос "незави-симого
человека" Руссо, в чем его личная
выгода, чтобы быть справедливым и
подчиниться общей воле. Это и есть
то самое гегелевское
"непосредственное укоренение
особенного во всеобщем", которое
создает гражданское измерение
человеческого существования и дает
необходимую основу праву.
Разумеется, речь идет не о той добродетельной
классической республиканской
гражданственности, которая
строится на подчинении или даже
подавлении частного интереса
общественным благом и которую
Н.Макиавелли выразил своим
незабываемым афоризмом о большей
озабоченности граждан
"спасением отечества, чем своей
души" (84). Напротив, я имею в виду
современную, либеральную
гражданственность, которая делает
частный интерес практически
осуществимым, поскольку он
становится чем-то бульшим, чем
только частный интерес, и обретает
новую - гражданскую - ипостась
соотнесенности с универсальными
политическими и правовыми
условиями существования общества
субъективной свободы. Можно
сказать, что необходимость
либеральной гражданственности
есть необходимость функциональная,
вытекающая из решения задачи
создать предпосылки для
осуществления многообразных и
конфликтных частных интересов,
причем решения, альтернативного
авторитарному варианту.
Либеральная гражданственность
исходит из неустранимости
противоречия между двумя
ипостасями бытия современного
человека как частного лица и как
гражданина. Более того, она
полагает это противоречие продуктивным
для всего общественного
развития, тогда как неспособность
удержать данное противоречие,
подавление одной из его сторон -
будь то в пользу гражданина или
частного лица - ведет, хотя разными
путями, к политическому
авторитаризму и культурной
деградации. Именно в таком
понимании рассматриваемого
противоречия, а отнюдь не во
второстепенных по отношению к нему
суждениях о "принуждении к
свободе" или миссии Законодателя
суть расхождений либерализма и
Руссо. Для последнего достижение
счастья и свободы предполагало как
раз преодоление противоречия
"между человеком и гражданином.
Сделайте человека чем-нибудь одним,
и вы сделаете его счастливым,
насколько это для него возможно.
Отдайте всего человека государству
или же предоставьте полностью
самому себе, но если вы делите его
сердце на части, оно
разрывается..." (85)
Функциональное понимание
либеральной гражданственности,
включая ее институциональные и
правовые воплощения, важно и в
другом отношении. Можно ли о раз
возникших таким образом институтах
и системах права сказать, что они
либерально-гражданственны "по
своей природе", как бы независимо
от меняющихся обстоятельств
общественной жизни? Видимо, нет.
Нравственная субстанция народного
духа, писал Гегель, есть
"обособленная от себя и
ограниченная, и ее субъективная
сторона отягощена случайностью,
представляет собой
бессознательный обычай и в то же
время сознание своего содержания
как существующего конкретного во
времени и в отношении к внешней
природе и миру" (86)
(выделено мной. - Б.К.).
Такой
политический кризис вызывает
субъективное стремление
"дьяволов" изменить форму их
взаимоотношений, перевести
конфликт в иную плоскость, в
которой данный частный интерес
соотносился бы с некоторыми
всеобщими условиями реализации
частных интересов вообще, в том
числе и данного. Но это и есть ответ
на вопрос "незави-симого
человека" Руссо, в чем его личная
выгода, чтобы быть справедливым и
подчиниться общей воле. Это и есть
то самое гегелевское
"непосредственное укоренение
особенного во всеобщем", которое
создает гражданское измерение
человеческого существования и дает
необходимую основу праву.
Разумеется, речь идет не о той добродетельной
классической республиканской
гражданственности, которая
строится на подчинении или даже
подавлении частного интереса
общественным благом и которую
Н.Макиавелли выразил своим
незабываемым афоризмом о большей
озабоченности граждан
"спасением отечества, чем своей
души" (84). Напротив, я имею в виду
современную, либеральную
гражданственность, которая делает
частный интерес практически
осуществимым, поскольку он
становится чем-то бульшим, чем
только частный интерес, и обретает
новую - гражданскую - ипостась
соотнесенности с универсальными
политическими и правовыми
условиями существования общества
субъективной свободы. Можно
сказать, что необходимость
либеральной гражданственности
есть необходимость функциональная,
вытекающая из решения задачи
создать предпосылки для
осуществления многообразных и
конфликтных частных интересов,
причем решения, альтернативного
авторитарному варианту.
Либеральная гражданственность
исходит из неустранимости
противоречия между двумя
ипостасями бытия современного
человека как частного лица и как
гражданина. Более того, она
полагает это противоречие продуктивным
для всего общественного
развития, тогда как неспособность
удержать данное противоречие,
подавление одной из его сторон -
будь то в пользу гражданина или
частного лица - ведет, хотя разными
путями, к политическому
авторитаризму и культурной
деградации. Именно в таком
понимании рассматриваемого
противоречия, а отнюдь не во
второстепенных по отношению к нему
суждениях о "принуждении к
свободе" или миссии Законодателя
суть расхождений либерализма и
Руссо. Для последнего достижение
счастья и свободы предполагало как
раз преодоление противоречия
"между человеком и гражданином.
Сделайте человека чем-нибудь одним,
и вы сделаете его счастливым,
насколько это для него возможно.
Отдайте всего человека государству
или же предоставьте полностью
самому себе, но если вы делите его
сердце на части, оно
разрывается..." (85)
Функциональное понимание
либеральной гражданственности,
включая ее институциональные и
правовые воплощения, важно и в
другом отношении. Можно ли о раз
возникших таким образом институтах
и системах права сказать, что они
либерально-гражданственны "по
своей природе", как бы независимо
от меняющихся обстоятельств
общественной жизни? Видимо, нет.
Нравственная субстанция народного
духа, писал Гегель, есть
"обособленная от себя и
ограниченная, и ее субъективная
сторона отягощена случайностью,
представляет собой
бессознательный обычай и в то же
время сознание своего содержания
как существующего конкретного во
времени и в отношении к внешней
природе и миру" (86)
(выделено мной. - Б.К.).
![]() "Нравственная
субстанция" либеральной
гражданственности также
"отягощена случайностью". Она,
собственно, и является таковой не
сама по себе, а лишь исполняя
описанную выше функцию по
отношению к данной
констелляции частных интересов с
их определенным данным
содержанием в их конкретных данных
соотношениях. Если все эти данности
меняются, то существующие
институты и системы права могут
оказаться неспособными далее
исполнять эту функцию. Урок Гегеля в том, что
универсальное и необходимое
существует только в особенном и
случайном "материале" и
посредством него. Может быть,
данности современных западных
обществ, если в чем-то
социально-политические концепции
постмодернизма адекватны
действительности, изменились
настолько, что существующие
либеральные институты утрачивают
способность опосредовать частные
интересы с их новым содержанием и в
их новых соотношениях, и перед
лицом растущей социальной
фрагментации Запад столкнется с
необходимостью заново (хотя
опираясь на свое наследие)
вырабатывать либеральную
гражданственность и ее
нравственную субстанцию?
"Нравственная
субстанция" либеральной
гражданственности также
"отягощена случайностью". Она,
собственно, и является таковой не
сама по себе, а лишь исполняя
описанную выше функцию по
отношению к данной
констелляции частных интересов с
их определенным данным
содержанием в их конкретных данных
соотношениях. Если все эти данности
меняются, то существующие
институты и системы права могут
оказаться неспособными далее
исполнять эту функцию. Урок Гегеля в том, что
универсальное и необходимое
существует только в особенном и
случайном "материале" и
посредством него. Может быть,
данности современных западных
обществ, если в чем-то
социально-политические концепции
постмодернизма адекватны
действительности, изменились
настолько, что существующие
либеральные институты утрачивают
способность опосредовать частные
интересы с их новым содержанием и в
их новых соотношениях, и перед
лицом растущей социальной
фрагментации Запад столкнется с
необходимостью заново (хотя
опираясь на свое наследие)
вырабатывать либеральную
гражданственность и ее
нравственную субстанцию?
![]() "Конструктивистская"
функция либеральной идеи на этапе
этих завершающих шагов перехода к
либерально-демократическому строю
состоит в том, чтобы разработать
адекватную российским условиям
концепцию либеральной
гражданственности и обеспечить ее
общественную поддержку. Эта
функция предполагает также, что
будет предложен проект-схема
институционального воплощения
либеральной гражданственности,
соответствующего особенному и
"случайному" "материалу"
России. На тех этапах продвижения к
либерально-демократическому строю,
о которых сейчас идет речь, это
будет уже не
"просветительство" и
прожектерство, но
интеллектуально-духовное
удовлетворение вызревших
общественных потребностей.
Либеральная идея окажется уже не
пустым стремлением перескочить
пропасть между желанием и его
предметом, а политически и
социологически конкретизированной
программой действий.
"Конструктивистская"
функция либеральной идеи на этапе
этих завершающих шагов перехода к
либерально-демократическому строю
состоит в том, чтобы разработать
адекватную российским условиям
концепцию либеральной
гражданственности и обеспечить ее
общественную поддержку. Эта
функция предполагает также, что
будет предложен проект-схема
институционального воплощения
либеральной гражданственности,
соответствующего особенному и
"случайному" "материалу"
России. На тех этапах продвижения к
либерально-демократическому строю,
о которых сейчас идет речь, это
будет уже не
"просветительство" и
прожектерство, но
интеллектуально-духовное
удовлетворение вызревших
общественных потребностей.
Либеральная идея окажется уже не
пустым стремлением перескочить
пропасть между желанием и его
предметом, а политически и
социологически конкретизированной
программой действий.
![]() Пока же мы
находимся в смутном времени, когда
еще уместно, как хочется верить,
писать хотя бы пролегомены к ней.
Пока же мы
находимся в смутном времени, когда
еще уместно, как хочется верить,
писать хотя бы пролегомены к ней.
(1) Гегель Г.В.Ф. Философия духа. Энциклопедия философских наук. Т. 3. М., Мысль, 1977. С. 241. Назад
(2) Гудименко Д.В. Политическая культура России: преемственность эпох // Полис, 1994, # 2. С. 156157. Назад
(3) Ленин В.И. Государство и революция // ПСС, Т. 33. С. 63. Энгельс. Ф. Анти-Дюринг // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 292. Назад
(4) Луговская А. Дикий лоббизм становится в России реальной властью // Известия, 21 июня 1994. Назад
(5) Капелюшников Р. Российский либерализм: быть или не быть // Либерализм в России. М., Агентство "Знак", 1993. С. 15 –18. Назад
(6) Весьма дискуссионен, к примеру, вопрос, являлся ли "средний класс" в преддверии и на заре капитализма творцом теории и практики либерализма. Исторические примеры, показывающие, что делал этот "класс", когда в его руках оказывалась власть, – будь то кальвиновская Женева, кромвелевская Британия или пуританские колонии Новой Англии [в отношении последних А. де Токвиль прямо писал о "тиранических законах", которые "принимались отнюдь не принудительным путем: они принимались свободным голосованием всех заинтересованных в них граждан" (Токвиль А. де. Демократия в Америке. М., Прогресс, 1992. С. 51)], – дают мало поводов рассматривать этот класс в качестве имманентно (или даже в основном) либерального. Не лишено оснований и сделанное Дж. Сартори, исходя из истории политической мысли, заключение: "политический либерализм предшествовал коммерциализму, laissez-faire и капитализму, короче, либерализм предшествовал либеризму" (т.е. собственно экономическому либерализму) – Sartori G. The Theory of Democracy Revisited. Part II. Chatham House, N.Y., 1987. P. 379. Изучение истории XVIII–XIX вв. приводит некоторых исследователей к мысли, что, "если бы средние классы оказались действительно достаточно могущественными, чтобы следовать собственным склонностям, политическая история Запада никогда бы не двинулась в сторону конституционной демократии" (Watkins F. The Political Tradition of the West. A study in the development of Modern Liberalism. Westport. Greenwood Press, 1982. P. 149). Что побудило (или заставило) "средний класс" принять теорию и практику либерализма? – вот продуктивная формулировка вопроса относительно западного опыта, могущая быть поучительной для нас. Но, размышляя над ним, в любом случае нельзя игнорировать различия старого и нового "среднего класса", класса независимых собственников и лиц "свободных профессий", с одной стороны, и класса "белых воротничков" – с другой, различий, существенных именно с точки зрения объективных возможностей и субъективных способностей этих двух видов "среднего класса" быть носителем либеральных ценностей и давать либеральную фокусировку общественному мнению и политической жизни (о различиях между ними в данном аспекте см.: Mills C.Wright. Mass Society and Liberal Education // C.Wright Mills. Power, Politics and People. N.Y., Ballantine Books, n.d. P. 363–364). И уж совсем обескураживает – в свете исследований К. Полани (Polanyi K. The Great Transformation. N.Y. – Toronto, Farrar & Rinehart. 1944. P. 139 и далее) и других ученых – усмотрение в "тотальной неэффективности государственной власти" фактора, благоприятствующего утверждению либеральных ценностей и институтов. Назад
(7) Мандевиль Б. Басня о пчелах. М., Мысль, 1974. С. 69. Назад
(8) Гоббс Т. О гражданине // Т.Гоббс. Избр. произведения в 2-х томах. Т. 1. М., Мысль, 1964. С. 302. Назад
(9) Там же. С. 303. Назад
(10) Гоббс Т. Там же. С. 336–337. Назад
(11) Кант И. Основы метафизики нравственности // И.Кант. Соч. в 6-ти томах. Т. 4, Ч. 1. М., Мысль, 1965. С. 223. Назад
(12) Гоббс Т. Там же. С. 350–351, 369–370, 377 и др. Назад
(13) Нередко на основании такой концепции государства Гоббсу вообще отказывают в принадлежности к пантеону либеральных мыслителей. Например, для Хайека Гоббс является просто автором одной из "тоталитарно-позитивистских концепций" (Hayek F.A. New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas. L. Routledge & Kegan Paul, 1978. P. 158). Гораздо более глубоким, улавливающим динамику и напряженность мысли Гоббса, представляется суждение одного из крупнейших "гоббсоведов" консервативной ориентации М. Оакешотта: "Действительно... не будучи сам либералом, Гоббс заключал в себе больше философии либерализма, чем большинство ее патентованных защитников" (Oakeshott M. Hobbes on Civil Association. Oxford. Basil Blackwell, 1975. P. 63). В самом деле, Гоббс по меньшей мере "дуалистичен" в этом отношении, предлагая откровенно либеральную, если не либертарную, концепцию того, что связано с бытием человека как частного лица, собственника, максимизатора субъективной полезности, и в то же время крайне авторитарную концепцию политического бытия индивида. Когда же эти линии рассуждения пересекаются в некоторой мыслительной экстремальной ситуации, Гоббс однозначно отдает предпочтение первой из них: политические обязательства индивида по отношению к государству условны, и они простираются лишь до требования пожертвовать жизнью ради государства, ибо высший смысл существования последнего заключается в обеспечении сохранности жизни, а потому данное требование недействительно. Гоббс вообще делает новаторский (во многом даже по отношению к позднейшей либеральной традиции) вывод о том, что "мужество" не является гражданской добродетелью, и государство не вправе требовать от подданных обладания ею (См.: Гоббс Т. Там же. С. 261–262). Назад
(14) Гоббс Т. Там же. С. 356. Назад
(15) Там же. С. 357–358. Назад
(16) Какой именно смысл, это и раскрывают современные теории "элитарной демократии", отвергающие "классическую доктрину" демократии XVIII века именно на том основании, что вместо "народа", способного формировать свою волю и делегировать власть, есть лишь "толпа", не способная ни к чему подобному; вместо "общей воли", долженствующей быть отраженной правительством, имеется лишь "общественное мнение", характеризующееся почти беспредельной манипулируемостью; вместо граждан – частные лица, озабоченные лишь своей выгодой и дегенерирующие, как только они вступают в сферу политики, до уровня первобытного примитива. Поэтому смысл либерально-демократических институтов сводится именно к процедуре конкурентного образования властвующей на данный период группы, что и означает: "демократия есть правление политиков", при котором "избиратели не решают вопросы" (Schumpeter J.A. Capitalism, Socialism and Democracy. N.Y., Harper Colophon Books, 1976. P. 242, 253, 257, 260, 263–264, 285, 282). Это и есть современное описание механики осуществления того же, о чем говорил Гоббс, т.е. создания "народом" верховной власти, в отношении которой он тут же становится абсолютно бессильным, распадаясь на "толпу" частных лиц, свободно (в рамках допустимого) преследующих свои особые интересы. Если западная действительность не вполне отвечает этой картине, то лишь по той причине, что там имеется некоторая эмпирическая данность, не выводимая из посылки частного интереса, о чем речь пойдет ниже. Назад
(17) Гоббс Т. Там же. С. 336. Назад
(18) Там же. С. 344, 345, 347. Назад
(19) Гегель Г.В.Ф. Позитивность христианской религии // Г.В.Ф.Гегель. Работы разных лет в 2-х томах. Т. 1. М., Мысль, 1970. С. 189–190. Назад
(20) Гоббс Т. Там же. С. 365, 363. Назад
(21) Там же. С. 354. Назад
(22) Там же. С. 367. Назад
(23) Как и почему этот
интеллектуальный опыт мог быть и
был проигнорирован определенным и
в некоторые исторические периоды
доминирующим течением либеральной
мысли, – особый и сложный вопрос,
ответ на который в данной работе
можно наметить только эскизно. Теоретически
уход от "проблемы Гоббса"
оказался связан с пересмотром
понимания как природы человека, так
и природы общества. В отношении
первой ключевую роль сыграло
различение и разведение
инструментального и нравственного
разума, о чем уже шла речь ранее,
вернее – в рамках рассматриваемого
течения либеральной мысли –
сведение разума к собственно
инструментальному. Если у Гоббса
своеобразная "онтологичность
морали" выражалась в том, что
инструментальный разум, движимый
эгоистическим частным интересом,
необходимым и
"естественнонаучным" образом
открывал в себе самом
универсальные нравственные
"естественные законы", то уже у
Юма "разум есть и должен быть
лишь рабом аффектов и не может
претендовать на какую-либо другую
должность, кроме служения и
послушания им". Он "сам по себе
никогда не может быть мотивом
какого-либо акта воли" и
"никоим образом не может
препятствовать аффектам в
осуществлении их руководящей
роли" (Юм Д. Трактат о
человеческой природе. // Д.Юм. Соч. в
2-х томах. Т. 1. М., Мысль, 1965. С.
554–556).
У самого Юма "аффекты" как
"первичная данность"
антропологии и социологии еще не
натурализуются (во всяком случае,
не биологизируются), как то
происходит в дальнейшем. Однако он
уже делает решающий шаг к тому,
чтобы рассматривать, во-первых,
"базис" человеческого
поведения и общественной жизни как
нечто доразумное или внеразумное;
во-вторых, сам разум и его
"артефакты" (прежде всего
политику) как нечто именно
"надстроечное", отражающее и
обслуживающее "базис". Здесь
происходит кардинальный разрыв с
классической (античной) концепцией
политики, согласно которой
государство первично именно
потому, что оно есть такая форма
организации действительности,
которая, с одной стороны, построена
на специфически человеческих
свойствах – речи (т.е.
коллективного дискурса) и разумной
нравственности (т.е. способности
воспринимать и различать добро и
зло, справедливость и
несправедливость), а с другой
стороны, государство есть
единственная форма, в которой эти
специфические человеческие
свойства воспроизводятся и
развиваются. Поэтому, по
Аристотелю, существо, не
составляющее элемент государства,
есть "либо животное, либо
божество" (изложенное выше
понимание полиса см.: Аристотель.
Политика. Кн.1 (А) // Аристотель. Соч. в
4-х томах. Т. 4. М., Мысль, 1965. С. 378–380).
Гоббсовская концепция политики,
очень во многом отличная от
аристотелевской и даже
противоположная ей, сохраняет тот
момент классики, что образование
человеческого общежития
необходимо опосредуется
разумно-нравственным актом (т.е.
"общественным договором"), в
котором и только в котором масса
благодаря ему на миг становится
"народом".
Дальнейшее пост-юмовское развитие
рассматриваемой линии либерализма
пошло по пути натурализации
"базиса" человеческого
поведения и общественной жизни, т.е.
дерзновенной попытки
конструировать животное
общежитие или общежитие людей как
животных, differentia specifica которых не
определяется принадлежностью к
речевой (дискурсивной) и
нравственной общности.
Соответственно радикально
изменилось и само понимание
природы человека. Если для
Аристотеля (и классической
традиции вообще) природа человека
или любого "объекта" есть
высшее состояние зрелости и
полноты реализации
сущностно-специфических его
свойств, "какое получается при
завершении его развития"
(Аристотель. Там же. С. 378) (у человека
это именно
дискурсивно-нравственные
свойства), то в рамках
рассматриваемой линии либерализма
природа человека начинает
ассоциироваться с "исходными"
и низшими детерминантами поведения
человека и его
"дочеловеческим" состоянием,
т.е. в первую очередь с
физиологическими потребностями и
стимулами. В этой логике И. Бентаму,
к примеру, было принципиально важно
отстаивать тезис, что труд человека
не может иметь какой-либо другой
цели, кроме приобретения
богатства и сохранения своего
существования, что единственная
эмоция, которую труд способен
вызывать, – отвращение, а потому
"любовь к труду есть
противоречие в понятии" (Jeremy
Bentham’s Ecоnomic Writings. Ed. by W.Stark. Vol.3 L., The
Royal Economic Society. George Allen & Unwin, 1954. P. 428,
427). Труд как универсальный способ
человеческой деятельности (а он
предстает таковой, поскольку у
Бентама уже не проводится
характерное для античности
различение "делания" и
"деятельности") является человеческим
трудом лишь по средствам
(обеспечиваемым
"разумом-рабом"), а не по целям
и не по своей природе (в
аристотелевском ее понимании).
Но в таком случае открывается
возможность подлинно новаторского
понимания и природы общества. Если
человек движим в сущности и в
основном дочеловеческими
потребностями и побуждениями, то и
способ взаимодействия людей можно
рассмотреть как нечто в сущности и
в основном дочеловеческое, т.е. по
модели взаимодействия элементов
органической жизни вообще, для
которой специфически человеческие
свойства не являются необходимыми
и конституирующими. Ярко и наглядно
такое понимание человеческого
общежития выступает в полемике
Г.Спенсера с Платоном и тем же Гоббсом
(что для нашей темы любопытно само
по себе). Спенсер критикует этих
мыслителей как раз за то, что они
уподобляют устройство общества
"способностям человеческого
ума" (соответствие триад
"разум–воля–страсти" и
"правители–воины–работники"
в первом случае и человеческому
телу (Левиафан) – во втором).
Социолог XIX века усматривает
"главные ошибки" своих
философских предшественников в
том, что "оба мыслителя принимают
своей исходной точкой положение,
что организация общества может
быть сравнима не с организацией
живого тела вообще, но с
организацией живого человеческого
тела в особенности. Нет никаких
данных такого положения... Это
просто одна из тех фантазий,
которые обыкновенно являются
примешанными к истинам,
открываемым на первых ступенях
мышления. Еще ошибочнее
оказываются эти понятия в том
отношении, что они принимают
общество за искусственное
построение" (Спенсер Г.
Социальный организм // Г.Спенсер.
Опыты научные, политические и
философские. Ч.1. СПб., А.О. Издатель,
1899. С. 148–149. Выделено мной. – Б.К.).
"Искусственность",
противопоставляемая здесь
"натуральности" и
"органичности" и есть та
опосредующе фундаментальная роль
нравственной разумности и речевой
дискурсивности (хотя бы) в
образовании человеческого
общежития, без которой последнее не
мыслилось ни античной классикой, ни
Гоббсом, но которая для ведущего
социолога викторианской эпохи –
уже пpосто "фантазия". Назад
(24) Берк Э. Размышления о революции во Франции. М., Рудомино, 1993. С. 51. Назад
(25) Там же. С. 52, 120, 95, 130–131. Назад
(26) Шлезингер А.М. Циклы американской истории. М., Прогресс, 1992. Гл.1. Назад
(27) Washington G. The Farewell Address // Famous American Speeches. Ed. by St. H.Benedict. N.Y., Wiley, 1965. P. 28. Назад
(28) Easton D. A System Analysis of Political Life. N.Y. Wiley, 1965. Chapters 10–13. Назад
(29) Offe Claus. Capitalism by Democratic Design? // Social Research. Vol. 58, # 4, Winter 1991. P. 871. Назад
(30) Jeremy Bentham’s Economic writings... P. 429. Назад
(31) Idem. P. 431. Назад
(32) Баткин Л. Как не повредить обустройству России? // Октябрь, 1991, # 4. С. 158. Назад
(33) Штенберг Б., Твардовская В. Завершился ли диалог в "Диалоге" // Коммунист, 1990. # 18. С. 87. Назад
(34) У некоторых идеологов отечественного либерализма принципиальная установка на банальность выражалась с большим пафосом и приобретала значение едва ли не главного их методологического достоинства. Так, Л.Пияшева писала: "Никакой оригинальной теории, никакого нового экономического закона и изобретенного мной "авторского" рецепта перехода к рынку я не предлагаю. Моя программа – апробированный историей и выдержавший проверку на дееспособность добротный "английский" путь к "благосостоянию народов" – путь классического рыночного либерализма" (Пияшева Л. Реформа // Октябрь, 1991, # 1. С. 157). Разумеется, при этом нет даже отзвука дискуссий о политических, институциональных, нравственных условиях осуществления этого "пути", об этических посылках той же смитовской теории "богатства народов". Назад
(35) Althusser L.. For Marx. L. Penguin. 1969. P. 255; Althusser L. and Balibar E. Reading Capital. L., New Left Books, 1970. P. 220–224. Назад
(36) Гайдар Е. Новый курс // Известия, 10 февраля 1994. С. 4. Назад
(37) Независимая газета, 27 марта 1992. Назад
(38) Известия, 11 декабря 1993. С. 4. Назад
(39) Пожалуй, наиболее известным и получившим широкий резонанс представлением данной точки зрения стало выступление И.Клямкина и А.Миграняна "Нужна "железная рука"?" (Нужна "железная рука"? // Литературная газета, 16 августа 1989). Назад
(40) Одним из ранних и ярких примеров таких рассуждений стало заключение Е. Котовой о необходимости авторитарного лидера для проведения "правильной" (!), т.е. "капиталообразующей", приватизации, который "станет на единственно возможный путь ускорения этого по природе своей жесткого и несправедливого процесса, а именно на путь неизбежного подавления недовольства народа..." (Независимая газета, 27 марта 1992). Назад
(41) Friedman M. Capitalism and Freedom. Chicago, Univ. of Chicago Press, 1962. P. 24. Назад
(42) Linz J.J. The Future of the Authoritarian Situation // Authoritarian Brazil. Ed. by A.Stephan. New Haven. Yale Univ. Press, 1973. Назад
(43) Hayek F.A. Op. сit., P. 34. Назад
(44) Разумеется, само по себе видение советского общества как тоталитарного монолита, живущего по законам централизованного планирования, является убогой мифологемой, впрочем вошедшей в стратегический арсенал отечественного либерализма. Назад
(45) Баткин Л. Мертвый хватает живого // Литературная газета, 20 сентября 1989. Назад
(46) Там же. Назад
(47) Вообще удивительно, насколько отечественные либералы нечувствительны к высокой напряженности в отношениях между либерализмом и демократией, к необходимости политического поиска форм их "стыковки", форм, которые оказываются всегда достаточно деликатными (что отнюдь не означает ненужности такого поиска). Мы не говорим уже о том, что некоторые виды либерализма, как, например, утилитаризм, в своей нравственной и методологической сердцевине чужды и индивидуализму, и демократическому плюрализму. Из примеров классического анализа этого вопроса укажу лишь на фундаментальный труд Дж.Роулса: Rawls J. A Theory of Justice. Cambridge (Mass.). The Belknap Press, 1971. P. 29–31, Chapter 1, # 5, 6; Chapter 3, # 30). Назад
(48) Баткин Л. Мертвый хватает живого // Литературная газета, 20 сентября 1989. Назад
(49) Жириновский В. О собирательной роли России и молодых волках // Известия, 23 апреля 1994. Назад
(50) Занимательный сюжет для размышлений может дать вопрос о том, не является ли формирование подобной дуальной модели общественной организации своего рода мировой тенденцией, имеющей, разумеется, специфические черты в своих воплощениях в центрах и на периферии мировой хозяйственно-политической системы. Что касается центров, к которым Россия социально-экономически не относится, то П.Розанваллон, в частности, считает, что если не будет найдена жизнеспособная альтернатива кейнсианству и неолиберализму, то можно предвидеть возникновение "ублюдочного общества, в котором усиливающиеся рыночные механизмы будут сосуществовать с жесткими этатистскими формами и ростом избирательного социального корпоративизма. Такое общество будет основываться на множестве дуализмов, порождая как (социальные) блокировки, так и новые виды несправедливости. Оно окажется социально невыносимым и экономически неэффективным" (Rosanvallon P. The Decline of Social Visibility // Civil Society and the State. New European Perspectives. Ed. by J.Keane. L.–N.Y., Verso, 1988. P. 216–220). Назад
(51) Бем-Баверк Е. Основы теории ценности хозяйственных ценностей // Австрийская школа в политической экономии. М., Экономика, 1992. С. 482. Назад
(52) Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 годов // К.Маркс и Ф.Энгельс. Соч., 2-е изд. Т. 46, Ч. II. С. 276. Назад
(53) Подробнее см.: Капустин Б.Г. Крах иллюзий, или Драма борьбы // Рабочий класс и современный мир, 1990, # 3. С. 25–26. Назад
(54) Гайдар Е. Это решение – чисто политическое. // Известия, 20 января 1994. С. 6. Назад
(55) Салье М. Катастрофа либеральных принципов. // Независимая газета, 24 марта 1994. С. 5. Назад
(56) Гайдар Е. Фашизм и бюрократия. // Сегодня, 15 июня 1994. Назад
(57) Гайдар Е. Новый курс. // Известия, 10 февраля 1994. С. 4. Назад
(58) Федоров Б. Какое государство в суверенной России? // Известия, 15 июня 1994. С. 2. Назад
(59) Подробнее см.: Ослунд А. Шоковая терапия. М., Республика, 1994. С. 43 и далее. Назад
(60) Hirsh F. Social Limits to Growth. Cambridge (Mass.). Harvard Univ. Press, 1976. P.117–118. Если Ф. Хирш и прав в том, что дальнейшее развитие капитализма размывает ценностную систему, лежащую в основе "социальной моральности", и это делает "капиталистические экономики более трудными для управления", то следует иметь в виду, что в них уже сложилась благодаря еще (тогда) нерастраченному наследию эффективная институциональная структура рыночного и политического порядка, способная достаточно долгое время действовать "по инерции". Думаю, именно эту ситуацию – размывания наследия "социальной моральности" при достаточно эффективном "инерцион-ном" функционировании институциональной структуры – и отражают подобные ослундовской трактовки связи культурно-исторического и структурно-аналитического подходов. Назад
(61) Локк Дж. Опыты о законе природы. // Дж.Локк. Соч. в 3-х томах. Т. 3. М., Мысль, 1988. С. 48, 53. Назад
(62) Локк Дж. Два трактата о правлении. // Дж.Локк. Соч. в 3-х томах. Т. 3. М., Мысль, 1988. С. 277. Назад
(63) Джефферсон Т. Заметки о штате Вирджиния. // Американские просветители. Избр. произведения в 2-х томах. Т. 2. М., Мысль, 1969. С. 75. Назад
(64) Зомбарт В. Буржуа. Очерки по истории духовного развития современного предпринимателя. Петроград, Изд-во "Благо", 1917. С. 52 и далее. Назад
(65) Habermas J. The Structural Transformation of the Public Sphere. Cambridge (Mass.). MIT Press, 1989. P. 27. Назад
(66) Весьма показательно, что у Э.Даунса такие нормы и институты политической жизни, как "один человек – один голос", фиксированная периодичность выборов, конституционные гарантии свободы слова и т.д., принципиально не выводятся из "базовой аксиомы" "экономической теории демократии", в качестве которой выступает "рациональное поведение, в первую очередь ориентированное на эгоистические цели". Эти институты и нормы являются именно продуктами и наследием раннелиберальной "публичной сферы" par excellence и выступают той предзаданной матрицей, в которую укладывается эгоистическое поведение индивидов. Благодаря этому функционирует вся система (A.Downs. An Economic Theory of Democracy. N.Y., Harper, 1957. P. 18–19, 27, 30). Назад
(67) Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., Мысль, 1990. С. 344, 330. Назад
(68) Там же. С. 277. Назад
(69) Стенограмма доклада Е.Гайдара на учредительном съезде партии Демократический выбор России (июнь 1994). С. 13. Назад
(70) Стенограмма доклада Е.Гайдара... С. 16. Назад
(71) Там же. С. 25 Назад
(72) Дидро Д. Естественное право. // Д.Дидро. Избр. произв., М.–Л., Гос. изд-во худ. лит-ры, 1951. С. 348. Назад
(73) Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или Опыт о форме Республики. (Первый набросок) // Ж.-Ж.Руссо. Трактаты. М., Наука, 1969. С. 308–309. Назад
(74) Там же. С. 308. Назад
(75) Там же. С. 313. Назад
(76) Там же. С. 179–182, 164. Назад
(77) Кант И. Критика чистого разума. М., Мысль, 1994. С. 470. Назад
(78) Кант И. К вечному миру. // И.Кант. Соч. в 6-ти томах. Т. 6. М., Мысль, 1965. С. 285–286. Назад
(79) Демократический эффект "пактов" никак нельзя преувеличивать. Как пишут Г.О'Доннелл и Ф. Шмиттер, "они имеют тенденцию уменьшать состязательность и конфликт (между элитами. – Б.К.); они стремятся ограничить ответственность перед широкой публикой; они пытаются контролировать выдвижение проблем в политическую "повестку дня"; они сознательно искажают принцип равенства граждан". Подробнее об этом см.: O’Donnell G. and Schmitter Ph.C. Transitions from Authoritarian Rule. Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore. The John Hopkins Univ. Press, 1986. P. 38. Назад
(80) Arendt H. On Revolution. N.Y., The Viking Press, 1965. P. 256. Назад
(81) Кант И. К вечному миру... С. 286. Назад
(82) Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре... С. 323. Назад
(83) Przeworski A. Democracy and the Market. Cambridge. Cambridge Univ. Press, 1991. P.1. Назад
(84) Макиавелли Н. История Флоренции. М., Наука, 1987. С. 112. Назад
(85) Руссо Ж.-Ж. Фрагменты и наброски (О счастье народа) // Ж.-Ж.Руссо. Трактаты. М., Наука, 1969. С. 429–430. Назад
(86) Гегель Г.В.Ф. Философия духа. Энциклопедия философских наук. Т. 3. М., Мысль, 1977. С. 371. Назад
В начало
страницы
© Б. Капустин
Иное. Хрестоматия
нового российского самосознания.
Б. Капустин. Либеральная идея и
Россия (Пролегомены к концепции
современного российского
либерализма).
http://old.russ.ru/antolog/inoe/kapust.htm