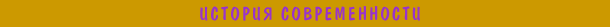|
 |
 Судьба философии в России этого века похожа на жизнь городского тополя - мощный оголенный ствол, которому из года в год обрубают веточки. И когда века почти не осталось, стали являться труды под никому не известными фамилиями. Судьба философии в России этого века похожа на жизнь городского тополя - мощный оголенный ствол, которому из года в год обрубают веточки. И когда века почти не осталось, стали являться труды под никому не известными фамилиями.
 Издательство "РОССПЭН" при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда выпустило уже несколько книг в серии "Философы России ХХ века". Жаль, что "РОССПЭН" не озаботилось объяснить цели и принципы отбора, но те четыре книги, которые уже встречаются на прилавках, позволяют разглядеть контуры новой серии.
Издательство "РОССПЭН" при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда выпустило уже несколько книг в серии "Философы России ХХ века". Жаль, что "РОССПЭН" не озаботилось объяснить цели и принципы отбора, но те четыре книги, которые уже встречаются на прилавках, позволяют разглядеть контуры новой серии.
I
 Видимая общность этих книг та, за которую их уже окрестили "обелисками". На аналогию наталкивает внешний вид книжек - серые стелы с червонно горящими буквами и непременной парой дат (19.. - 19..): "российскими философами" становятся, сперва умерев в СССР. Эти надгробия с фотографией из семейного архива на фронтисписе ставят родные, терпеливо хранившие никому не нужные бумаги, пока не представилась возможность скромного тиража, чтобы не позволить выцветающей машинописи истлеть без следа. (Хотелось поблагодарить издателей за бережное обращение с бумагами покойных, хотя бы за отсутствие "улучшений", но в книгах заметны ошибки, которых не было в оригиналах, - не выловив случайных блох, редакторы зачем-то и своих напустили.) Видимая общность этих книг та, за которую их уже окрестили "обелисками". На аналогию наталкивает внешний вид книжек - серые стелы с червонно горящими буквами и непременной парой дат (19.. - 19..): "российскими философами" становятся, сперва умерев в СССР. Эти надгробия с фотографией из семейного архива на фронтисписе ставят родные, терпеливо хранившие никому не нужные бумаги, пока не представилась возможность скромного тиража, чтобы не позволить выцветающей машинописи истлеть без следа. (Хотелось поблагодарить издателей за бережное обращение с бумагами покойных, хотя бы за отсутствие "улучшений", но в книгах заметны ошибки, которых не было в оригиналах, - не выловив случайных блох, редакторы зачем-то и своих напустили.)
 Западные издатели в любом из непризнанных советских философов ищут кого-то вроде А.А.Зиновьева. Однако имена авторов не из громких; их труды не публиковались или мелькали на страницах сборников и специальных журналов. Их знали в кругу, не выходившем за границы кухни, где собирались самые доверенные друзья, и институтского сектора, где в присутственные дни встречались соседи по платежной ведомости.
Западные издатели в любом из непризнанных советских философов ищут кого-то вроде А.А.Зиновьева. Однако имена авторов не из громких; их труды не публиковались или мелькали на страницах сборников и специальных журналов. Их знали в кругу, не выходившем за границы кухни, где собирались самые доверенные друзья, и институтского сектора, где в присутственные дни встречались соседи по платежной ведомости.
 Среди друзей уже позволительно было сказать многое. Мыслить можно было не опасаясь ни внешних, ни внутренних чекистов, вот только культура мысли была утрачена и надо было еще учиться мыслить.
Среди друзей уже позволительно было сказать многое. Мыслить можно было не опасаясь ни внешних, ни внутренних чекистов, вот только культура мысли была утрачена и надо было еще учиться мыслить.
 Обсуждая свои дела на неофициальных конференциях и симпозиумах в приснопамятной "стекляшке" или в ильенковской квартире на переименованной ныне улице Горького, советские мыслители вернулись к старым русским проблемам, прежде всего нравственным, - самоопределения, личностного выбора и ответственного решения. Вновь актуальными стали имена и заботы Чаадаева, Достоевского, Шестова, Короленко...
Обсуждая свои дела на неофициальных конференциях и симпозиумах в приснопамятной "стекляшке" или в ильенковской квартире на переименованной ныне улице Горького, советские мыслители вернулись к старым русским проблемам, прежде всего нравственным, - самоопределения, личностного выбора и ответственного решения. Вновь актуальными стали имена и заботы Чаадаева, Достоевского, Шестова, Короленко...
 Они встречались редко, но каждый был для другого Вторым - и пожать руку было, как потрогать рукой воздух, которым дышишь, проверяя, здесь ли он еще. Их были единицы, и каждый шел "под звуки своего марша". Но существование единиц позволяло увериться, что дело всей твоей жизни не интоксикация и не сумасшествие. Адресуя записи незнакомому еще, неведомому читателю из потомства, они волновались о его судьбе - каково ему будет там, одному на своей планете? Вдруг не окажется с ним рядом его Второго, и кто тогда его известит, что он не сошел с ума?
Они встречались редко, но каждый был для другого Вторым - и пожать руку было, как потрогать рукой воздух, которым дышишь, проверяя, здесь ли он еще. Их были единицы, и каждый шел "под звуки своего марша". Но существование единиц позволяло увериться, что дело всей твоей жизни не интоксикация и не сумасшествие. Адресуя записи незнакомому еще, неведомому читателю из потомства, они волновались о его судьбе - каково ему будет там, одному на своей планете? Вдруг не окажется с ним рядом его Второго, и кто тогда его известит, что он не сошел с ума?
II
 Книга Эвальда Ильенкова вышла недавно, а ей бы открывать серию. Для русско-советских философов послевоенного выпуска Ильенков был первой любовью. Богато одаренный, он привлекал умом, ораторским блеском, грацией движений, телесных и душевных, каким-то рыцарски восторженным преклонением перед талантом. Книга Эвальда Ильенкова вышла недавно, а ей бы открывать серию. Для русско-советских философов послевоенного выпуска Ильенков был первой любовью. Богато одаренный, он привлекал умом, ораторским блеском, грацией движений, телесных и душевных, каким-то рыцарски восторженным преклонением перед талантом.
 Ильенковское "восхождение от абстрактного к конкретному" не просто гегелевская поправка к привычке полагать, будто конкретная вещь предшествует размышлениям о ней: чем дальше - тем ученее, абстрактнее, тем философичней... Единично-конкретное - это прежде всего каждый, индивидуальный человек, а не абстрактный строитель коммунизма - вот что рвалось из текстов Ильенкова. Бунт в этом признавали все - и студенты конца 50-х - будущие шестидесятники, - и профессура выпуска 37-го. Философы-шестидесятники - философы ильенковского призыва - изменили лицо аудиторий, для них стали читать и писать воскресшие и окрыленные В. Ф. Асмус и А. Ф. Лосев. Восстановилась прерванная школа русской философии.
Ильенковское "восхождение от абстрактного к конкретному" не просто гегелевская поправка к привычке полагать, будто конкретная вещь предшествует размышлениям о ней: чем дальше - тем ученее, абстрактнее, тем философичней... Единично-конкретное - это прежде всего каждый, индивидуальный человек, а не абстрактный строитель коммунизма - вот что рвалось из текстов Ильенкова. Бунт в этом признавали все - и студенты конца 50-х - будущие шестидесятники, - и профессура выпуска 37-го. Философы-шестидесятники - философы ильенковского призыва - изменили лицо аудиторий, для них стали читать и писать воскресшие и окрыленные В. Ф. Асмус и А. Ф. Лосев. Восстановилась прерванная школа русской философии.
 "Человека" своей философии Ильенков нашел в слепоглухих от рождения детях Мещеряковской лаборатории, которые прилагали невероятные усилия, чтобы научиться "простому" - мысли и речи. Эти дети обнаруживали тайну идеального - его активную, а не зависимую природу. С тем Ильенков и вошел в схоластику послевоенного "диамата" - с тезисом, что мысль - не благонамеренно усвоенный урок, а деятельность, труд развития личности вне заданных ей регламентов.
"Человека" своей философии Ильенков нашел в слепоглухих от рождения детях Мещеряковской лаборатории, которые прилагали невероятные усилия, чтобы научиться "простому" - мысли и речи. Эти дети обнаруживали тайну идеального - его активную, а не зависимую природу. С тем Ильенков и вошел в схоластику послевоенного "диамата" - с тезисом, что мысль - не благонамеренно усвоенный урок, а деятельность, труд развития личности вне заданных ей регламентов.
 Ильенков еще писал с большой буквы Логику и Мышление. Его ближайшие ученики - Трубников, Туровский, Батищев, Библер - во главу угла поставят Этику мыслящего человека и Культуру мысли, а науке выставят требование гуманизации. Едва раскрыв Гегеля, молодежь прознала и об антигегельянстве экзистенциалистов - этих Ильенков на дух не принимал. Новое поколение тянулось к идеям свободы, личной ответственности, самоопределения - и широкое их движение оттеснило Ильенкова с его свободой внутри мышления на обочину. Первопроходец остался в арьергарде, пройденный и преодоленный, запертый в кругу эпигонов-прихлебателей. Но право уйти по собственному решению Ильенков, как выяснилось, сохранял за собой и однажды им воспользовался.
Ильенков еще писал с большой буквы Логику и Мышление. Его ближайшие ученики - Трубников, Туровский, Батищев, Библер - во главу угла поставят Этику мыслящего человека и Культуру мысли, а науке выставят требование гуманизации. Едва раскрыв Гегеля, молодежь прознала и об антигегельянстве экзистенциалистов - этих Ильенков на дух не принимал. Новое поколение тянулось к идеям свободы, личной ответственности, самоопределения - и широкое их движение оттеснило Ильенкова с его свободой внутри мышления на обочину. Первопроходец остался в арьергарде, пройденный и преодоленный, запертый в кругу эпигонов-прихлебателей. Но право уйти по собственному решению Ильенков, как выяснилось, сохранял за собой и однажды им воспользовался.
III
 "Это был философ милостью божьей", - сказал про Николая Трубникова в предисловии к его книге Е. Никитин. Но милость обернулась еще и карой. Нравственный и интеллектуальный уровень этого человека изолировал его от окружающих бессрочнее и надежней, чем цензура, выталкивал в вакуум, во внутреннюю эмиграцию, на свой личный - и добровольный и вынужденный - Патмос. "Это был философ милостью божьей", - сказал про Николая Трубникова в предисловии к его книге Е. Никитин. Но милость обернулась еще и карой. Нравственный и интеллектуальный уровень этого человека изолировал его от окружающих бессрочнее и надежней, чем цензура, выталкивал в вакуум, во внутреннюю эмиграцию, на свой личный - и добровольный и вынужденный - Патмос.
 Его размышления направлены на "конечные начала", как сам он их называл. Эти "конечные начала", достигая вершины познавательного восхождения, в пределе оказываются одними и теми же для всех уровней бытия, от божественного до звериного. В неразрывной слитности эти конечные начала явлены в формах самой твоей жизни и смерти. Поняв "социально-демиургический, пантократический" смысл обыденной жизни человека, пришлось взять на себя ответственность за все то, что философы называют Целым и Всеобщим, Социальностью и Историей. Толстовский вопрос "что мне делать?" становился не одним среди многих вопросов философии, но единственным одним.
Его размышления направлены на "конечные начала", как сам он их называл. Эти "конечные начала", достигая вершины познавательного восхождения, в пределе оказываются одними и теми же для всех уровней бытия, от божественного до звериного. В неразрывной слитности эти конечные начала явлены в формах самой твоей жизни и смерти. Поняв "социально-демиургический, пантократический" смысл обыденной жизни человека, пришлось взять на себя ответственность за все то, что философы называют Целым и Всеобщим, Социальностью и Историей. Толстовский вопрос "что мне делать?" становился не одним среди многих вопросов философии, но единственным одним.
 Осмысление собственной жизни и смерти привело Трубникова к философской интерпретации художественного произведения, явившегося результатом такого же целостного восприятия природы, истории, человеческой жизни и божественного провидения, - романа Г. Мелвилла "Моби Дик".
Осмысление собственной жизни и смерти привело Трубникова к философской интерпретации художественного произведения, явившегося результатом такого же целостного восприятия природы, истории, человеческой жизни и божественного провидения, - романа Г. Мелвилла "Моби Дик".
 Следующим шагом стало создание собственных текстов, близких к художественным. Эти то ли повести, то ли записки - практикум философа, взявшегося по нотам собственной личности "сыграть человека", вместо того чтобы о нем писать. Большинство написанного Трубниковым не укладывается ни в рамки литературных жанров, ни в каноны философских исследований. Но его книга крепко сбита личностью автора. Трубников своей судьбой, своей жизнью - до бытовых мелочей - отвечал на академические вопросы о смысле и сущности человеческого бытия.
Следующим шагом стало создание собственных текстов, близких к художественным. Эти то ли повести, то ли записки - практикум философа, взявшегося по нотам собственной личности "сыграть человека", вместо того чтобы о нем писать. Большинство написанного Трубниковым не укладывается ни в рамки литературных жанров, ни в каноны философских исследований. Но его книга крепко сбита личностью автора. Трубников своей судьбой, своей жизнью - до бытовых мелочей - отвечал на академические вопросы о смысле и сущности человеческого бытия.
IV
 Проблема "греческого чуда" занимала многих невозможностью полного и окончательного объяснения. В своей книге Михаил Петров предложил поэтическую концепцию, по-сказочному красивую и, как водится, не без намека. Ответ на вечные вопросы он ищет в осмыслении того, что так стремительно рвалось к гибели, будто именно в прогрессе и таилась ему погибель. Проблема "греческого чуда" занимала многих невозможностью полного и окончательного объяснения. В своей книге Михаил Петров предложил поэтическую концепцию, по-сказочному красивую и, как водится, не без намека. Ответ на вечные вопросы он ищет в осмыслении того, что так стремительно рвалось к гибели, будто именно в прогрессе и таилась ему погибель.
 В начале была личность, индивидуум, атом. Космос жизни складывался из личных инициатив, личность была инициативна, жизнь ее не регламентирована, вернее, технологией жизни было мгновенно реагировать на непредвиденные обороты дела, и горизонт оказывался подвижен - где такое возможно, как не на корабле? Чье ремесло не терпит стандарта и плагиата? Разумеется, ремесло пирата!
В начале была личность, индивидуум, атом. Космос жизни складывался из личных инициатив, личность была инициативна, жизнь ее не регламентирована, вернее, технологией жизни было мгновенно реагировать на непредвиденные обороты дела, и горизонт оказывался подвижен - где такое возможно, как не на корабле? Чье ремесло не терпит стандарта и плагиата? Разумеется, ремесло пирата!
 Праатом инициативы - разбойник, корабельный пират. Романтический образ античного морского разбойника явно формировался под влиянием не только певца геройских грабежей Гомера, но и среды, озвученной песнями Высоцкого и Окуджавы. Пират Петрова уж не беззаконный грабитель, а тот, "кто хочет жить, кто весел, кто не тля" - человек в неприятии общества, живущий вне закона по своему внутреннему праву - автономная "личность, принимающая решения". В Ростове 70-х, когда за Петрова сообща взялись КГБ и местная профессура, он казался отчаянным беззаконником. Он и был им. Познание природы и логическое разделение ее на ряд сущностей - то же творческое пиратство, а когда изобильнейшим берегом для набегов становится своя голова, грабеж перерастает в героический энтузиазм познания.
Праатом инициативы - разбойник, корабельный пират. Романтический образ античного морского разбойника явно формировался под влиянием не только певца геройских грабежей Гомера, но и среды, озвученной песнями Высоцкого и Окуджавы. Пират Петрова уж не беззаконный грабитель, а тот, "кто хочет жить, кто весел, кто не тля" - человек в неприятии общества, живущий вне закона по своему внутреннему праву - автономная "личность, принимающая решения". В Ростове 70-х, когда за Петрова сообща взялись КГБ и местная профессура, он казался отчаянным беззаконником. Он и был им. Познание природы и логическое разделение ее на ряд сущностей - то же творческое пиратство, а когда изобильнейшим берегом для набегов становится своя голова, грабеж перерастает в героический энтузиазм познания.
 "Пират штурмует небо, чтобы опустошить Олимп и сесть на нем одинокой фигурой пирата-законодателя-творца, который весь мир превратит в свой дом, где он один повелитель". Главная идея книги - счастливая и понятная идея личности: личность не терпит прогресса, кто ставит на индивидуальность - ставит на смерть. Михаил Петров свою ставку сделал и далее о том не жалел.
"Пират штурмует небо, чтобы опустошить Олимп и сесть на нем одинокой фигурой пирата-законодателя-творца, который весь мир превратит в свой дом, где он один повелитель". Главная идея книги - счастливая и понятная идея личности: личность не терпит прогресса, кто ставит на индивидуальность - ставит на смерть. Михаил Петров свою ставку сделал и далее о том не жалел.
V
 К выпуску серии "Философы России ХХ века" приобщилось и санкт-петербургское издательство РХГИ (Российского христианского гуманитарного института). Питерский вариант во многом схож с московским, и редколлегия та же, и финансируется из Российского гуманитарного научного фонда. В 1997 году в этом издательстве впервые увидела свет книга Генриха Батищева "Введение в диалектику творчества". К выпуску серии "Философы России ХХ века" приобщилось и санкт-петербургское издательство РХГИ (Российского христианского гуманитарного института). Питерский вариант во многом схож с московским, и редколлегия та же, и финансируется из Российского гуманитарного научного фонда. В 1997 году в этом издательстве впервые увидела свет книга Генриха Батищева "Введение в диалектику творчества".
 Философия эпохи застоя или "развитого социализма" чтила "научность"; лозунгами дня были аббревиатуры НОТ и НТР. Идеологическое обеспечение научно-технической революции стало приоритетным направлением работы философских институтов. И, возможно, предвестником грядущих перемен звучала дежурная формула тех дней: "человеческий фактор".
Философия эпохи застоя или "развитого социализма" чтила "научность"; лозунгами дня были аббревиатуры НОТ и НТР. Идеологическое обеспечение научно-технической революции стало приоритетным направлением работы философских институтов. И, возможно, предвестником грядущих перемен звучала дежурная формула тех дней: "человеческий фактор".
 Кто он такой - этот человеческий фактор? Человек - это личность, личность - это свобода, а про свободу было хорошо известно, что она есть "познанная необходимость", при этом мало кто знал, что формулировку эту запустил в обращение еще Спиноза, а не очередной секретарь по идеологии. "Этические" подразделения в философских учреждениях сохранялись, но пребывали в загоне, и едва ли не единственным предметом исследовательских усилий их сотрудников был "моральный кодекс строителя коммунизма".
Кто он такой - этот человеческий фактор? Человек - это личность, личность - это свобода, а про свободу было хорошо известно, что она есть "познанная необходимость", при этом мало кто знал, что формулировку эту запустил в обращение еще Спиноза, а не очередной секретарь по идеологии. "Этические" подразделения в философских учреждениях сохранялись, но пребывали в загоне, и едва ли не единственным предметом исследовательских усилий их сотрудников был "моральный кодекс строителя коммунизма".
 Не дар, но творчество становится предметом исследования в книге Батищева, которая была завершена тогда, когда, собственно, уже закончилась социалистическая эпоха, в начале 80-х. То, что Михаил Петров с симпатией назвал бы "запретом на плагиат", Генрих Батищев с осуждением именует "погоней за псевдооригинальностью". В "негативной новизне" он видит презренное отступление духа перед диктатом рыночной конкуренции. Не множественность благо, но гармонические связи, обращающие множество в единство "полифонии". Накануне горбачевской революции Батищев предостерегает: плюрализм и толерантность - псевдодобродетели индивидуалистической демократии. Сквозь годы сказывается школа Ильенкова: потревоженный гласностью, вдруг прокашливается в Батищеве Гегель "Философии права".
Не дар, но творчество становится предметом исследования в книге Батищева, которая была завершена тогда, когда, собственно, уже закончилась социалистическая эпоха, в начале 80-х. То, что Михаил Петров с симпатией назвал бы "запретом на плагиат", Генрих Батищев с осуждением именует "погоней за псевдооригинальностью". В "негативной новизне" он видит презренное отступление духа перед диктатом рыночной конкуренции. Не множественность благо, но гармонические связи, обращающие множество в единство "полифонии". Накануне горбачевской революции Батищев предостерегает: плюрализм и толерантность - псевдодобродетели индивидуалистической демократии. Сквозь годы сказывается школа Ильенкова: потревоженный гласностью, вдруг прокашливается в Батищеве Гегель "Философии права".
 Творчество есть "работа общительности". Другие - не сартровский ад, другие - это мои другие, други, друзья, товарищи. Творческая свобода человека - не пиратское "все дозволено", а слобода, Город Мастеров, место в традиции и в сообществе современников, сотрудников, "других" людей... И это не утопия, а обиход: разношерстная среда вечно курилась вокруг своего "Генриха", напитывая тезис о "работе общительности" теплым бытовым смыслом.
Творчество есть "работа общительности". Другие - не сартровский ад, другие - это мои другие, други, друзья, товарищи. Творческая свобода человека - не пиратское "все дозволено", а слобода, Город Мастеров, место в традиции и в сообществе современников, сотрудников, "других" людей... И это не утопия, а обиход: разношерстная среда вечно курилась вокруг своего "Генриха", напитывая тезис о "работе общительности" теплым бытовым смыслом.
 Человек отвечает за себя и перед собой, за семью и перед семьей, за страну и перед страной, за Вселенную и перед Вселенной, за то, что он Человек, - перед Тем, Кто сделал его человеком. Диалектика творчества, по Батищеву, - "встреча двух бесконечных становлений". На собственное rendez-vous со Вселенной этот московский профессорский сын явился неожиданно твердым. Его тяжелая смерть, как подобает философу и христианину, сбылась незамеченной.
Человек отвечает за себя и перед собой, за семью и перед семьей, за страну и перед страной, за Вселенную и перед Вселенной, за то, что он Человек, - перед Тем, Кто сделал его человеком. Диалектика творчества, по Батищеву, - "встреча двух бесконечных становлений". На собственное rendez-vous со Вселенной этот московский профессорский сын явился неожиданно твердым. Его тяжелая смерть, как подобает философу и христианину, сбылась незамеченной.
* * *
 Их труды оставались неоконченными, поскольку писались без надежды на учеников и читателей. И теперь все наследие мыслителя, плодотворно работавшего по двадцать пять часов в сутки, легко умещается в книжку. Их труды оставались неоконченными, поскольку писались без надежды на учеников и читателей. И теперь все наследие мыслителя, плодотворно работавшего по двадцать пять часов в сутки, легко умещается в книжку.
 Но они писали для тех, кто живет здесь. Они заботились о вечном ради своих современников по СССР. Когда возникала возможность опубликовать произведения за границей, "под абсолютно надежным псевдонимом", они отказывались ее использовать.
Но они писали для тех, кто живет здесь. Они заботились о вечном ради своих современников по СССР. Когда возникала возможность опубликовать произведения за границей, "под абсолютно надежным псевдонимом", они отказывались ее использовать.
 Проблемы, которым они посвящали свои интеллектуальные усилия, были проблемами их соотечественников. Так они сами решили. Именно это решение сегодня превращает их на родине в иноязычных, а серию "Философы России ХХ века" в заграничную - отделенную от нас границей времени. Истлели и перетерлись многие передающие нити. И то, что было языком откровения, претерпев бесчисленные перепевы и отоваривания, спустя десять-пятнадцать лет кажется самодеятельным ретрошлягером.
Проблемы, которым они посвящали свои интеллектуальные усилия, были проблемами их соотечественников. Так они сами решили. Именно это решение сегодня превращает их на родине в иноязычных, а серию "Философы России ХХ века" в заграничную - отделенную от нас границей времени. Истлели и перетерлись многие передающие нити. И то, что было языком откровения, претерпев бесчисленные перепевы и отоваривания, спустя десять-пятнадцать лет кажется самодеятельным ретрошлягером.
 Но время идет, и разница между годом написания и годом обнародования перестает что-либо значить. А для читателя факт наличия границы притягательней ее отсутствия. Ведь именно граница в России есть повод прислушаться к словам тех, с кем недоговорили в Отечестве, пока можно было с ними беседовать.
Но время идет, и разница между годом написания и годом обнародования перестает что-либо значить. А для читателя факт наличия границы притягательней ее отсутствия. Ведь именно граница в России есть повод прислушаться к словам тех, с кем недоговорили в Отечестве, пока можно было с ними беседовать.
 Теперь свободы выражения вдосталь, зато опять нужда в уменье мыслить. Хлестко формулировать выучились, вот только запас содержания для формулировок иссяк. И это, может быть, еще вернет нас к павшим отечественной мысли, в их неказистый ряд. Разобрались же с "нелепейшим" Кьеркегором, хоть и на пятьдесят лет позже, а восстановили рядом с Лермонтовым, не подозревавшим о его существовании! Вот и одинокие ХХ века еще могут стать на равных с дворцовой галереей Двенадцатого года - которая ведь не смотрится сегодня случайной коллекцией мужских портретов.
Теперь свободы выражения вдосталь, зато опять нужда в уменье мыслить. Хлестко формулировать выучились, вот только запас содержания для формулировок иссяк. И это, может быть, еще вернет нас к павшим отечественной мысли, в их неказистый ряд. Разобрались же с "нелепейшим" Кьеркегором, хоть и на пятьдесят лет позже, а восстановили рядом с Лермонтовым, не подозревавшим о его существовании! Вот и одинокие ХХ века еще могут стать на равных с дворцовой галереей Двенадцатого года - которая ведь не смотрится сегодня случайной коллекцией мужских портретов.
Литература:
Трубников Н. Н. О смысле жизни и смерти. - М.: "Российская политическая энциклопедия" (РОССПЭН), 1996.
Туровский М. Б. Философские основания культурологии. - М.: РОССПЭН, 1997.
Петров М. К. Античная культура . - М.: РОССПЭН, 1997.
Ильенков Э. В. Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении. - М.: РОССПЭН, 1997.
Батищев Г. С. Введение в диалектику творчества. - СПб.: Изд-во РХГИ, 1997.
Готовятся к выпуску в 1997-1998:
Сильвестров В. Культура. Деятельность. Общение.
Муравьев В. Преодоление времени.
|