27.05.98 |
|||||||
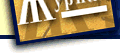 |
|||||||
Мирча Элиаде
Миф о вечном возвращении. Архетипы и повторяемостьПер. с фр. Е. Морозовой, Е. Мурашкинцевой; науч. конс. к. и. н. Я. Чеснов. - СПб.: Алетейя, 1998. - 250 с.; тираж 4 000 экз.; серия "Миф, религия, культура"; ISBN 5-89329-081-3.
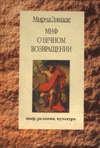
В последние годы уже были переведены на русский язык несколько крупных культурологических работ Мирча Элиаде: "Священное и мирское", "Аспекты мифа". Вышел даже сборник его художественных произведений. Теперь же издательство "Алетейя" выпустило новый перевод "Мифа о вечном возвращении", книги, которую сам автор назвал "Введением в философию истории".
Это наиболее ранняя из программных книг Элиаде. Она писалась между 1945 и 1947 годами, на румынском языке, и была закончена уже в Париже, в послевоенной Франции. По объему она невелика и, по идее, адресована любому читателю - целью автора было изложить свою мысль в максимально доступной форме, используя краткие формулировки и практически опустив неизбежные в научных трудах подробные ссылки.
Структура книги (очерка, как называет ее сам Элиаде) подчеркивает упомянутую в авторском предисловии протяженность ее написания - несмотря на ее целостность, заметно, как менялось по ходу работы состояние автора. Возможно, это иллюзия, и книга создавалась по заранее обдуманному плану - и тем не менее на широкого читателя, которому она предназначена, ее начало и конец должны производить разное впечатление. При всем пиетете по отношению к имени Элиаде, известного сейчас даже тем, кто не читал его работ, при всем его стремлении к простоте и доступности, книга первоначально как будто не отвечает ожиданиям - это суховатое, несколько напоминающее пусть хороший, но все же учебник, изложение фактов и концепций, которые в большинстве своем уже так или иначе известны - возможно, именно благодаря трудам Элиаде. Книга кажется лишенной того, что может сделать даже специфическую научную работу доступной и желанной читателю, - подъема, внутренней энергии, в конце концов вдохновения. Пристрастность - вот то, что отличает любимую вами книгу от самого лучшего учебника. Автору учебника, как правило, не бывает больно от того, о чем он пишет, во всяком случае он не дает вам это понять.
И первая и вторая главы книги Элиаде почти бесстрастны - они призваны ввести читателя в круг обсуждаемых проблем, предъявить ему язык, на котором в дальнейшем должно вестись их обсуждение. Элиаде делает это скупо и четко, с короткими, но яркими примерами из космологии архаических обществ - от "восточно-эллинского мира" до Индии, от Океании до средневековой Европы. И вот тут у читателя, которого не остановит обстоятельность изложения, появляется возможность изменить свое отношение к автору. Текст из сухой лекции постепенно начинает превращаться в эссе, в нем появляется не только мысль, но и скрываемое, подавляемое чувство - эта категория, может быть, и вредит научному исследованию, но делает книгу современной - явно современной для 1947 года и современной даже для дня сегодняшнего, - ощущение, которое дает только боль. К финалу книги становится, наконец, понятно, о чем, собственно, она написана.
"Ужас перед историей" - так Элиаде назвал последнюю главу, но так он мог бы назвать и всю книгу. "Вечное возвращение" - воспроизводство мифа о творении Вселенной - оказывается актом уничтожения - уничтожения реального времени, уничтожения истории. История - слишком страшная и непонятная вещь, чтобы можно было вынести ее присутствие. Для архаического человека истории не существует - каждый акт творения, будь то рождение, брак, исцеление от болезни или празднование Нового года, есть воссоздание мира заново - и упразднение тем самым всего, что было раньше. Жизнь невыносима. Чтобы выжить, нужно знать, что кто-то жил и страдал раньше, - и тогда спасение в том, чтобы поступать так же, как он. Спасение в соответствии архетипу - но архетип отвергает индивидуальность, реальность, уничтожает ее. Частный, личностный случай уничтожения реальности - исповедь. Грехи делают человека индивидуальностью, отличают от других - и следовательно, ставят под угрозу его существование. Спасение можно получить в обмен на отказ от "личной истории".
Вся жизнь архаических, политеистических сообществ состоит из постоянного уничтожения реальности - только так можно выжить. С появлением монотеизма ситуация частично меняется - человеку приходится жить в рамках истории, данной ему Богом, но в надежде на то, что наступит момент и история закончится - раз и навсегда. Элиаде противопоставляет "традицию" политеизма "вере" монотеизма - но тем не менее они все равно все строятся на упразднении истории.
Впрочем, философское рассуждение в рамках монотеизма, по мнению Элиаде, удел элиты - основная масса христиан по-прежнему продолжает мыслить в архаической традиции вечного возвращения. Главное не это, главное - ужас, вселенский тягостный страх перед обрушивающимися на тебя несчастьями. Последние страницы книги Элиаде проникнуты просто физическим ощущением этого страха. Это уже не просто ужас человечества - это ужас автора. Крик о помощи: концепция эволюции не может выдержать две мировые войны, человеческий разум не в силах примириться с их "исторической необходимостью". В какой-то момент Элиаде становится даже откровенно, неприкрыто пристрастен - начиная вести скрупулезный подсчет бедствий, заявляя, что эволюционистские концепции могли создать только "представители тех наций, для которых история никогда не была постоянным ужасом". И противоречит тем самым самому себе - ведь история всегда является ужасом для всех.
Человек ищет выхода, ищет утешения и спасения. Элиаде нужен ответ в конце книги - без ответа он не может. Вполне традиционно, и тоже достаточно противоречиво по отношению к своим собственным предыдущим построениям, он хватается за веру. Обсуждая мнимую свободу современного "исторического человека", он приходит к выводу, что свобода, которая "способна защитить современного человека от ужаса перед историей - это свобода, которая исходит от Бога и опирается на него. Любая другая современная свобода может, конечно, принести некоторое удовлетворение тому, кто ею обладает, однако она бессильна оправдать историю, а это равносильно ужасу перед историей с точки зрения любого человека, который не лукавит с самим собой."
Человек не должен лукавить с самим собой - иначе он не будет человеком. И лукавь или не лукавь, верь или не верь, а история все равно остается, и защиты от нее не существует. Но человек не может не обманывать себя - тогда он не желал бы спасения. К концу эта книга все более и более напоминает мучительную попытку зрячего, мыслящего человека обрести утраченную слепоту. Доказательство, что и для современного человека нет ничего желаннее вечного возвращения.
Ксения Зорина
| www.russ.ru | Содержание РЖ | Архив | Форумы | Антологии | Книга на завтра | Пушкин | Объявления | Досье |
| Бессрочная ссылка | Новости электронных библиотек | Монокль | Пегас Light | Русский университет |
| © Русский Журнал, 1998 | russ@russ.ru |