1.06.98 |
|||||||
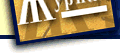 |
|||||||
Макс Хоркхаймер, Теодор В. Адорно
Диалектика просвещения. Философские фрагментыПер. с нем. М. Кузнецова. М. - СПб.: Медиум, Ювента, 1997. - 312 с.; тираж не указан; ISBN 5-85691-051-6; 5-87399-043-3.

Как вы помните, один довольно известный в России ценитель литературы назвал как-то роман "Мать" Горького очень своевременной книгой. Речь, конечно, не о его вкусах. Просто книга Хоркхаймера и Адорно вполне заслуживает аналогичной оценки.
Начатая в годы второй мировой войны и вышедшая впервые в 1947 году, книга была переиздана авторами в 1969-м. К их удивлению, тогда в Европе она не казалась устаревшей. Так получилось, что и в сегодняшней России многие выводы Хоркхаймера и Адорно звучат весьма злободневно.
Целью работы, хотя авторы этого не подчеркивали, очевидно, было вскрыть причины прихода к власти в цивилизованных европейских странах фашистских диктаторов. Но и материал, и методика, и результаты исследования оказались довольно нестандартными. Согласно Хоркхаймеру и Адорно, появление тоталитарных режимов фашистского типа было закономерным продолжением или даже итогом развития буржуазной европейской цивилизации. Естественно, их книга - не оправдание фашизма (авторы заканчивали ее в Америке, так как из Германии им, по понятным причинам, пришлось уехать), а вариант, быть может, набросок, социокультурного анализа всей европейской истории.
История европейской цивилизации, считают авторы, начинается вместе со странствиями Одиссея. Для нашего столетия этот миф оказался одним из ключевых. Стоит ли напоминать о литературных вариациях на эту тему - от Джойса до Бланшо? Но Хоркхаймера и Адорно "Одиссея" привлекает именно как переломный, осевой для европейской культуры момент. Корабль Одиссея двигался не из Трои в Итаку, а из мифа в историю. Именно образ неустрашимого мореплавателя и циничного практика (Гомер, кстати, называет своего героя махинатором, хотя в тогдашнем греческом слово имело более благородное значение, чем в современном русском) знаменует для Хоркхаймера и Адорно победу просвещения над мифом и переход мифологии в историю. Миф пассивен по отношению к природе, тогда как пафос просвещения связан не столько с познанием, сколько с подчинением, завоеванием, накоплением. Авторы подчеркивают, что Одиссей вернулся бы на родину довольно богатым человеком, если бы не противостояние сил мифа, не гнев Посейдона. Бог потому и гневался, что время его власти заканчивалось. Человек, точнее, не просто человек, а буржуа (это для Адорно и Хоркхаймера понятие скорее культурологическое, нежели экономическое) подчинял себе природу. Так, Одиссей побеждает сирен и циклопа, причем не силой, как сделал бы герой мифа, не в открытом бою, а хитростью, как надлежит человеку Просвещения. Впрочем, "эпос умалчивает о том, что сталось с сиренами после того, как скрылся из виду корабль" (с. 80).
Книга повествует о диалектике просвещения, то есть об истории цивилизации в движении и о парадоксах, с которыми она сталкивалась. Подчиняя себе природу, человек не становился свободнее, напротив, он все более и более попадал в зависимость от идеалов, которые навязывала ему его собственная программа. Идеалом человека Просвещения стал механизм, работающий без сбоев. И следующий экскурс Хоркхаймера и Адорно в историю культуры связан с творчеством маркиза де Сада. Оценка, которую они ему дают, также далека от привычной. Сад всегда воспринимался как бунтарь, разрушитель обывательской морали, он, как известно, изрядную часть жизни провел в тюрьме. Но для авторов книги он является выразителем буржуазного идеала. Его сплоченные отряды развратников, точно выполняющие свою работу, функционируют как слаженный механизм. Это начало последнего этапа просвещения, когда идеал - машина реализуется на практике, причем не в том смысле, что люди строят совершенные механизмы, а в том, что они сами превращаются в эти механизмы. Важно не содержание действий героев Сада, а форма, то, как они действуют. Именно они оказываются первыми в европейской истории людьми, превратившимися в детали некоего механизма.
Отсюда уже не сложно перейти к возникновению государства, которое функционирует как такой механизм, причем направлен он, в полном соответствии с пафосом просвещения, на захват, подчинение и уничтожение того, что нельзя захватить. Оправданными оказываются любые действия, вплоть до массового террора, лишь бы они шли на пользу механизму как целому. Стоит отметить, что речь идет не о реальной пользе, а об убежденности в ее наличии. Формированию такой убежденности служит пропаганда во всех ее видах, важнейшее из достижений просвещения. Парадоксально положение диктатора в подобном государстве. С одной стороны, он занимает место окончательно изгнанных, темных и божественных сил мифологии. Но при этом, с другой стороны, он с необходимостью должен быть таким же примитивным или даже более примитивным, чем те, кто ему подчинен. Механизм не терпит выдающихся частей. Такова не особенно привлекательная картина европейской истории в представлении Хоркхаймера и Адорно.
Авторы едва ли стали бы переиздавать книгу после победы над Германией, если бы их выводы касались только фашистских режимов. И когда я говорил выше об актуальности работы в нынешней России, я не имел в виду современного фашистского движения и угрозы, с ним связанной. Фашистов в России, по счастью, пока еще очень мало (узок круг этих и т.д.), и они, что называется, без тельняшек. Книга дописывалась в Америке, но реалии самой демократической в мире страны не заставили авторов переменить взгляды на перспективы развития цивилизации, скорее наоборот. Пропаганда на всех уровнях, от речей президента до рекламы кока-колы, по форме аналогична и в тоталитарных, и в демократических странах. Связано это, по мнению авторов, именно с направленностью европейского просвещения. Тенденция к унификации людей проявляется не только в организациях типа гитлерюгенда, но и в массовой культуре, от кино до эстрады. То, что массовая культура как феномен существует, связано, конечно, с коммерцией (накопительство - во всех его видах - основная черта просвещения), но то, что она существует именно в такой форме, связано с направлением истории цивилизации. Часть проблем рассматривается в "Философских фрагментах", набросках, непосредственно примыкающих к основному тексту. Именно с машиноподобным идеалом просвещения связаны штампованность и примитивизм явлений массовой культуры. Анализ проблем, связанных с достижениями массовой культуры, и должен, по моему мнению, привлечь внимание русской читающей публики. Мы столкнулись с ними в последние годы, и, похоже, для многих это было полной неожиданностью. Довлатов, если помните, описывал разницу между СССР и Западом в представлении советских людей так: "Здесь - неволя и портвейн, там -свобода и коньяк". Оказалось, помимо свободы и коньяка там есть и менее приятные вещи, которые прижились у нас на удивление быстро.
Безусловно, от книги Хоркхаймера и Адорно легко отмахнуться, как от еще одной вариации на тему Руссо. Но, в отличие от последнего, у них нет позитивной программы. Мифологический период привлекает авторов даже меньше, чем время торжества машинных идеалов просвещения. Хоркхаймер и Адорно вообще не дают оценок, в соответствии с идеями Вебера, они просто описывают то, что, по их мнению, имеется в наличии на данный момент, и то, во что это может трансформироваться. Многие их выводы и аргументы спорны и заслуживают критики, но, вне всякого сомнения, все они заслуживают внимания.
Евсей Вайнер
| www.russ.ru | Содержание РЖ | Архив | Форумы | Антологии | Книга на завтра | Пушкин | Объявления | Досье |
| Бессрочная ссылка | Новости электронных библиотек | Монокль | Пегас Light | Русский университет |
| © Русский Журнал, 1998 | russ@russ.ru |