15.10.98 |
|||||||
 |
|||||||
Пушкин не пушкин
Ян Шенкман

Как шепот рождается прежде губ, так пушкин появился в мире задолго до рождения человека с этой фамилией и остался там после его смерти. Пушкин останавливает коня на скаку, ходит в народ, скрывается от охранки. Пушкин, как компьютерная мышь, разгуливает по амбарам любого текста.
Мы можем выбрать того пушкина, который нам нравится больше: пушкина-Лермонтова, пушкина-Гоголя, пушкина-Блока, пушкина-Бродского. Это имя магнитом тянет то к одной, то к другой фамилии. Здесь, впрочем, нет большой беды. Александр Сергеевич и сам частенько бывал царем петром, моцартом, дантом, пугачевым и прочими пиндемонти прежде, чем стать пушкиным.
Слово пушкин имеет еще одно значение. На русском языке оно означает поэт.

Рассматривать поэта в контексте его эпохи - удел историков и литературоведов. Для читателя же поэт, как и писатель в хармсовском смысле, - совсем другое. Он давно стал именем нарицательным: пушкин, гоголь, лермонтов бесконечно далеки от тех, кто носил эти фамилии. Слова утратили первоначальный смысл и стали выполнять функции знаков, обращающих наше внимание на сухой историко-культурный контекст. Чтобы восстановить смысл, необходим своего рода перевод, адаптация. Перевод не на так называемый язык современности, а на личный, на мой язык. Нужно попытаться включить Пушкина в систему личных ценностей и найти ему место в этой системе, максимально аутентичное тому, какое он занимал в свое время. А найдя, периодически возобновлять поиски. Иначе мы столкнемся с тем, что Жан-Поль Сартр называл затвердением выбора: или Пушкин снова отстанет от нас, или мы от Пушкина.
Одна из наиболее удачных попыток реинкарнации принадлежит, по-моему, Бродскому:
Входит Пушкин в летном шлеме, в тонких пальцах - папироса. В чистом поле мчится скорый с одиноким пассажиром.
Сходство здесь скорее звуковое, интонационное. Описание на том уровне, на котором образ поэта может быть воспринят англичанином, китайцем, марсианином и человеком другого века. Убирая антураж как неглавное, несущественное при идентификации образа, Бродский делает упор на пушкинскую пластику. Переодетый Пушкин немедленно узнан, даже если бы не был назван. В новом наряде поэт угадывается скорее и точнее, чем с бакенбардами и во фраке. Неоднократно я слышал гипотезы о том, чем занимались бы Моцарт и Пушкин, живи они в наше время. Наиболее распространенные из них: Пушкин писал бы рок-тексты, а Моцарт - музыку для рекламных роликов. Читая Бродского, я понимаю: важно не что делал бы Пушкин, а как, с каким выражением лица.

Время идет. Многих из тех, кто оживлял великие духи, уже нету в живых. "Все интересуются, что там будет после смерти? - писал Довлатов. - После смерти начинается - история". Культуре, если она не желает превратиться в "адидас", стоит держаться подальше от истории. " Мы могли бы войти в историю; слава Богу, мы туда не пошли. ", - пел Борис Гребенщиков на альбоме "История Аквариума. Том III"...
Культура, как известно, - саморазвивающийся, самодвижущийся механизм, жестко детерминированная структура. Так называемые памятники культуры запрограммированы ею и необходимым образом вытекают из того, что уже создано. И все же: о живых, о действующих мастерах не скажешь вот так с плеча, что они запрограммированы.
Литература упорно не хочет замыкаться на самой себе. Активно осваивает низовые пласты языка, низовые сюжеты. Столь активно, что к концу тысячелетия возникает иллюзия полной оккупации некультурного пространства. Круглая дата, как всегда, навязывает нам ожидание итога, желание лицезреть предельную точку своего развития. Дойдя до предела, нужно понять, куда двигаться дальше.
Вот что писал Бодлер о литераторах прошлого:
"Им посчастливилось появиться в период юности мира, так сказать, на заре человечества, когда еще ничто не нашло себе изображения и всякая форма, всякий образ, всякое чувство имели прелесть девственной новизны. Великие общие места, лежащие в основе человеческой мысли, были тогда в полном своем расцвете и удовлетворяли наивных гениев, говоривших с народами, не вышедшими из детства. (...) Но, благодаря повторениям, эти общие поэтические темы поистерлись, как монеты от долгого обращения. Кроме того, жизнь сделалась сложнее, обогатилась сведениями и идеями и не укладывается более в этих искусственных сочетаниях доброго старого времени. Наивность не свойственна XIX веку, для передачи его мыслей, мечтаний, посылок нужен язык более сложный, чем так называемый классический стиль".
Как известно, именно с языка начинаются проблемы литературы на каждом новом этапе. Писатель, по Бродскому, инструмент языка, а инструмент, не подходящий новому языку, остается фактом скорее истории, чем литературы. Язык и есть, видимо, мерило времени, препятствие, которое, если верить философским выкладкам Хармса, надо преодолеть, чтобы попасть из прошлого в будущее. С другой же стороны - язык переходит к нам по наследству от мертвых, и, осознав себя в языке, мы приобщаемся к ним...

В девятнадцатом веке именно литература была окружена ореолом избранности. Это было занятие во многом романтическое. Двадцатый век привнес в литературу трезвый и, если так можно выразиться, посткатастрофический взгляд на вещи. Но это не конец литературы, о котором так много говорят, а скорее - конец двухсотлетней эпохи романтической литературы. Он трагичен, но лишь для тех, у кого романтизмом все начинается и заканчивается.
Современное искусство, тем не менее, к прошлому и будущему апеллирует в значительно большей степени, чем к настоящему. Бестселлерами становятся повествования из жизни кремлевских покойников, кутюрье одевают модели в марсианские скафандры, театры талантливо ставят конец света... Может случиться так, что мы будем прекрасно осведомлены о 1948 и 2048 годах, а девяносто восьмой останется для нас белым пятном, загадкой...
Русский язык воплотил через Пушкина (как немецкий через Гете, итальянский - Данте, а английский - Шекспира и Байрона) такое количество архетипов, что на них одних уже может строиться не только национальная литература, но и национальное сознание. И значит, после того, как были написаны "Дар напрасный, дар случайный", "Мороз и солнце", "Я вас любил", "На холмах Грузии", "Чистейшей прелести чистейший образец" etc., мир уже не мог оставаться прежним. Пушкин сделал вселенную взрослее и проявленней в языке.
В эту область чистой поэзии вслед за Пушкиным вошел Гоголь, значительно раздвинувший ее границы. Его тема - потенциал каждой вещи, каждого человека. В отличие от романтиков Гоголь не творил мир фантастических злодеев в противовес реальным. Он, кажется, вообще не ощущал противовеса. Его зрение нечувствительно, как написал бы он сам, превращало точку в прямую, прямая преломлялась загадочной синусоидой... Такое движение всегда центробежно и лишено цели.
"Ты спрашиваешь, какая цель у "Цыганов", - писал Пушкин Жуковскому в 1825, - вот на! Цель поэзии - поэзия - как говорит Дельвиг (если не украл этого). "Думы" Рылеева и целят, а все невпопад".
"Сквозь магический кристалл" Пушкина виден со-размерный, хотя и неодномерный мир. Мир не искренний, но подлинный. И потому именно концептуальные, сюжетные вещи, а не откровенные излияния обретают у Пушкина истинно магическую мощь. Ощущение доступности любого предмета и в то же время абстрагирование его от собственного "я" достигает высшей точки в "Каменном госте", "Годунове", "Моцарте и Сальери", "Пире во время чумы". Мы имеем дело с Моцартом, который помещается в голове, c царями, действующими по воле того, кто водит пером. Того, кто приручил минотавра и сделал его домашним.
Хорошо ориентируясь в биографии поэта, мы придаем ей часто определяющее значение, не задумываясь о родословной пушкина, имеющей лишь косвенное отношение к Александру Сергеевичу. Не от политических пристрастий, числа женщин или, скажем, качества выпитого алкоголя зависели ритмы его произведений.
Мужество Пушкина вызывает безмерное уважение. Оно - в том, что, создав "классический стиль" и в короткий срок оснастив его шедеврами, он сумел взломать свое творение изнутри, мужественно продвинуть его за рамки конкретного времени. Время это, оставив след в пушкинских текстах, навсегда стало прошедшим.
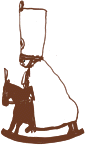
Он мог бы больше не писать, но не писать был не в состоянии. На память приходят лишь несколько людей, сумевших "не писать". Рембо, Ходасевич... И уж тем более отказ от полномочий пророка, признание в том, что находишься на периферии творческого процесса, не в традиции русской литературы. Маленький мужественный хоббит, совершив путешествие Туда и Обратно, находит в себе силы отказаться от магического кольца. Русские писатели цепляются за кольцо мертвой хваткой...
По прошествии времени мы видим: расстояние между самим Пушкиным и тем, что он написал, колоссальное. С возрастом оно становилась все глубже. Поздняя пушкинская лирика отличается от ранней, помимо прочего, еще и отсутствием личностных характеристик автора. Мы можем сказать нечто о человеке, которым написано послание "К Чаадаеву", "Демон" или "19 октября". Но "Пророк", "Три ключа", "Отцы-пустынники", "Воспоминание" написаны как бы "человеком вообще" или всем человечеством. И дело здесь не только в наличии или отсутствии биографических реалий, а в предельной освобожденности интонации и очищенности поэтической дикции. Фильтр, через который энергия проходила из потенциального состояния в кинетическое, абсолютно прозрачен. Странным образом это наводит на мысль о гуманизме Пушкина.
Откроем гипотетическую энциклопедию на букву "П" и прочитаем определение Сергея Довлатова, достойное того, кого оно определяет:
"Не монархист, не заговорщик, не христианин - он был только поэтом, гением и сочувствовал движению жизни в целом."
| © Русский Журнал, 1998 | russ@russ.ru |