24.04.1998 |
|||||||
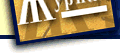 |
|||||||
Прогулки по Пскову (с Пушкиным и без)
Юрий Орлицкий
orli@rsuh.ruКак это ни горько, разрыв между столицей и провинцией в России растет с каждым днем. В Пскове - столице "Русского Запада" (так называется одна из здешних газет) это чувствуется особенно сильно. Может быть, потому что исторический центр, занимающий большую часть двухсоттысячного губернского города, буквально усеян историческими памятниками (вышедший недавно "Кадастр" мемориалов занимает семьсот страниц). А вот суперсовременных жилых домов и магазинов в "европейском" стиле здесь пока нет.
Однако "западность" Пскова сразу приметна, и объясняется она не только уникальностью его положения на российской карте - Псковская область граничит сразу с двумя странами, Эстонией и Латвией, - но и тем, что среди самых почитаемых здесь правителей - "импортный" (литовский) князь Довмонт, строитель древнего Пскова.
Exegi Monumentum, с. 19. 1
К этой кружке мы еще вернемся, а пока продолжим историческую часть нашей прогулки.
До недавнего времени земляки Довмонта - студенты из разных республик Балтии - во множестве учились в немногочисленных псковских вузах. И, конечно, привозили сюда западные нравы, а также пластинки. К тому же на речном трамвайчике за пару часов можно было добраться до Тарту. А за четыре на автобусе - аж до Риги. В доперестроечной России это было почти неправдоподобно, даже для питерцев.
Впрочем, рубежность Пскова всегда привлекала сюда иностранцев. Одни приходили с мечом - об этом напоминает возведенный недавно многофигурный памятник на окраине города, грозно смотрящий на Запад (заметим, как и Ленин, что перед Домом Советов). Другие - с миром, несмотря на то, что? "с одной стороны, псковитяне ценили вклад чужеземцев в развитие края, с другой же, учитывая постоянную военную угрозу, они даже в мирное время препятствовали тому, чтобы иностранцы посещали город". 2
Однако же? здесь бывали и жили кроме бизнесменов и европейцы других профессий. Например, врач и писатель Корнелий Раух, не только работавший в городской больнице и соответствующем губернском департаменте, но и издававший в течение 25 лет (конец XIX - начало XX века) первую в Пскове частную газету, а также написавший здесь и опубликовавший затем в Лейпциге исторический роман "Иисус, сын Иосифа". В России он был запрещен, что заставляет вспомнить недавние страсти по поводу другой иноземной продукции.
Сам сюжет обоих произведений никогда для православного Пскова не был чем-то чуждым - совсем наоборот. Другое дело - как его изображать. По просвещенному мнению Всеволода Рожнятовского, научного сотрудника Псковского музея-заповедника и хранителя здешнего сокровища номер один - храма Мирожского монастыря, чудом сберегшего древнейшие на Руси фрески в полной почти сохранности, знают это сегодня только в Пскове. По крайней мере, именно в здешних краях живут два известнейших современных русских иконописца: монах отец Зенон и белый священник отец Андрей Давыдов, который вот уже несколько лет расписывает другой старейший псковский храм - собор Рождества Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, что на берегу реки Великой. Оба они стилизуют свою манеру под домонгольских изографов, считая позднейшие новшества нарушением правил. Вот и решай после этого, какое на дворе тысячелетие - по псковскому, разумеется, календарю…
В пяти минутах хода от Ивановского монастыря и двадцати - от Мирожского в своей мастерской производит вполне авангардные книги художник Александр Стройло. Например, сложенную под накрытый столик-переплет книгу с потерянным текстом, который, как утверждает автор, был начертан прежде на старых пачках от "Кэмела". Или иллюстрирующие гротескными почеркушками каждую фразу хармсовских случаев книжицы с тисненными на переплетах персонажами - по тому на случай (недавно часть этих картинок воспроизведена в голландском двуязычном издании Хармса). Хотя выставки книг и других предметов Стройло москвичи уже видели, одна из них до сих пор размещена в библиотеке РГГУ. Да и сам художник нашел уже работу в столице...
Оказывается возможным именно из-за такого наслоения и переплетения времен одновременное существование в сознании псковского поэта Алексея Маслова разных эпох - как в большинстве рассказов из его книжицы "Пушкин и Ленин".
Голова Батеньки, с. 25.
Современный Псков и вправду на редкость политизированный город. Все здесь только и говорят о прошедших выборах местной власти, однако уверяя при этом, что они-то сами голосовать не ходили. Тут что ни день - то событие. Вот только некоторые из них - конспект рассказанного мне тележурналистом Александром Донецким. То полгорода поехало перегораживать бревнами дорогу в Латвию - после известного инцидента, разумеется. То судят издателя местной фашистской газеты: дают два года и тут же, в зале суда, амнистируют. То омоновцы гоняются за вице-губернатором, которого сам губернатор прячет в своем кабинете, и они сидят до утра взаперти, ожидая подкрепления. То приезжает в город, к своему товарищу по партии - губернатору Жириновский и устраивает ему головомойку. Может быть, кстати, как раз за то, что распивали классики у подножия монумента Пушкину и няне, построенного на месте знаменитого в прошлом и благоухавшего на весь Псков общественного туалета. Ведь главное занятие псковских властей, по мнению местного населения, - удовлетворение его, населения, ведущей духовной потребности путем насыщения рынка дешевой и забористой продукцией "ПсковАЛКО". Не каждый же день псковская таможня конфискует просроченное сверхкрепкое пиво "Амстердам" и выбрасывает его на рынок по демпинговой цене - чтобы весь город упился им до сшибачки.
Вообще элдэпээровское правление на Псковщине кажется на первый взгляд явным нонсенсом. Немногое объясняет и солидное исследование Владимира Вагина, опубликованное в газете "Новости Пскова", "Високосный " политический год в Псковской области: октябрь 1995 - ноябрь 1996 гг."- хотя какая еще российская губерния может похвастаться выходом подобной книги, обильно уснащенной таблицами и графиками. А может быть, виноваты в этом и монументы, доводящие до полного…
Клуб одиноких сердец, Пушкин и Ленин, с. 29.
Однако псковские журналисты склонны объяснять весь этот джаз в первую очередь общей маргинальностью местных жителей, живущих лицом на Запад, как их Ильич, но при этом вполне симпатизирующих разнообразным русским партиям, которых в Пскове несколько. Вкупе с проявившимися здесь недавно убежденными сатанистами и уже упомянутыми выше наследниками искровцев и юристов все это создает мощный заряд, расходуемый, правда, в основном на полуцензурную полемику газет и радиостанций.
А кто пограмотнее, как поэтесса Светлана Молева, художественно переводят между тем и научно комментируют "памятник русской письменности X - IX веков до Р.Х." "Слово об ариях", обнаруженный в Италии, на Перуджианском камне 3. Вот ведь беда, что Пушкин его вовремя не прочитал и не перевел…
Жили-были: Пушкин и Ленин, с. 27.
До поры до времени мы не решались давать пояснения "культовому" тексту книги Маслова. Однако, наверное, уже пора. Про крайней мере, что касается "Бейрута".
Его историю псковский радиожурналист и руководитель здешнего центра рок-музыки - ДК "Молодежный" - Андрей Константинов рассказывает долго и подробно. Рискнем сократить. "Бейрут" - кофейня в центре Пскова, аккурат на углу улиц Ленина и Пушкина, и пятачок возле нее. Здесь тусуется целыми днями молодежь и бывшая молодежь самых разных убеждений. В том числе - ответственные и полуответственные работники, журналисты, артисты, поэты. Нередко за одной стойкой мирно беседуют фашист и демократ, вслед за этим отправляющиеся на службу "обличать" (вернее: обливать грязью) один другого. А наутро вновь всходят за двойным без сахара и ста граммами…
Подобная гипертолерантность, по утверждению Андрея, тоже одна из черт псковской ментальности. Или особое понимание принципов?
Хотя тут же работает уже несколько лет и религиозно-философское общество имени Кирилла и Мефодия, оживленно обсуждающее на своих регулярных встречах проблемы религиозные и, естественно, философские. Причем философии не марксистской, а настоящей.
Пушкин и Ленин, с.7.
Пушкин, хотят этого или не хотят отдельные псковитяне, - главный персонаж местной новой истории. С этим вынуждены согласиться даже сильные здесь, в окружении помогающих самими своими именами стен-улиц, большевики. К грядущему двухсотлетию главного "псковского поэта" начала выходить симпатичная серия книг "Псковский край - 200-летию Пушкина": издано уже две книги, одна о Святогорском монастыре, другая - о рисовавшем Пушкина и других русских мыслителей Юрии Селиверстове. Обе выпустило то же издательство "Отчина", что потрясло мир переводом архидревнерусской поэмы. А Институт усовершенствования учителей издал пятитысячным тиражом иллюстрированную родословную роспись "А.С. Пушкин и его потомки", воспроизведя на ее страницах полторы сотни портретов и фотографий детей, внуков, пра-, прапра- и прапраправнуков поэта: Данилевских, Голицыных, Апраксиных и даже Герингов. Как ни относись к такого рода изысканиям, а книга интересная - по-человечески хотя бы.
При этом в Пскове вовсе нет культа Пушкина. С ним могут и пошутить - как филологи из педвуза на первое апреля, двусмысленно разместившие на дамском туалете "Как ждет любовник молодой минуты первого свиданья".
Его здесь знают и изучают - да: например, местный пединститут регулярно проводит пушкинские конференции и выпускает пушкинские сборники, привлекая к этому делу лучшие силы, в том числе и зарубежные. Накануне грядущего юбилея готовят мощный научный форум псковские лингвисты во главе с известным ученым Ларисой Яковлевной Костючук, сумевшей несколько лет назад так заинтересовать своими разысканиями зарубежных языковедов, что очередной симпозиум по псковским диалектам прошел в Норвегии - так и хочется сказать: соседней. А в прошлом году вышел в свет огромный фолиант "Псковские говоры" - полное описание диалектологических материалов, собранных в крае за долгие годы.
Главная особенность этих говоров, по мнению Костючук, тоже во многом обусловлена маргинальностью Пскова и его обитателей, язык которых законсервировал особенности древнерусского языка, поскольку город и окружающие его села, населенные кривичами, оказались отрезанными финскими племенами, с одной стороны, и нос к носу с немцами и прочими шведами - с другой. Русский язык в метрополии менялся по магистральным законам, на Псковщине хранил верность старинному обычаю и - путался с мерей и весью. В общем, лингвистам есть где разгуляться и кроме Пушкина. Хотя и Александр Сергеевич ими не забыт: именно диалектологи объяснили, почему волк в его сказке - бурый: в здешних говорах это слово означает именно серый цвет. Так мы лишились еще одной пушкинской загадки, зато приблизились к скучной, но объективной истине.
Еще больше работы у местных археологов, каждый год поднимающих из-под земли что-нибудь уникальное. Да и историкам некогда сидеть сложа руки: столько фактов нуждается в толковании и перетолковании, столько литературных памятников - в публикации. Достаточно открыть выпущенный недавно псковским музеем "Каталог книг кириллической печати XVIII века", содержащий почти пятьсот наименований, чтобы убедиться в этом.
Не Пушкиным единым живы и филологи: вот уже третью подряд книгу гончаровских материалов выпускают здесь мать и дочь Демиховские. Несколько лет назад они подготовили не известную ранее повесть писателя "Нимфодора Ивановна" вместе с избранными письмами, следом - переписку Гончарова с К.Р. А теперь вышел солидный тридцатилистовый том неизданной переписки писателя "И.А.Гончаров в кругу современников", вводящий в научный оборот более двух сотен новых источников по истории русской литературы.
Если припомнить еще два имени ушедших в прошлом году друг за другом псковских ученых - известного историка русской литературы XIX века Евгения Александровича Маймина и самого, наверное, знаменитого филолога - теоретика русской провинции Вячеслава Александровича Сапогова, - специалистам станет ясно, сколь широк (и далек от Пушкина) круг интересов псковских литературоведов и какими могучими авторитетами он представлен.
…Рассказывают, что "светлые" экстрасенсы, посещающие Псков, мучаются от обилия в здешней эзотерической атмосфере разнообразных злых духов, мешающих им работать. Сева Рожнятовский, напротив, убежден: "Надо вспомнить, что Псков - дом Святой Троицы, первый город, кафедрал которого посвящен именно Троице (мы тут за пазухой живем), и в мистическом плане на карте планеты это место совершенно уникальное.
А как псковитяне это воспринимают - как человек здоровье воспринимает: он его просто не замечает, пока есть. С детства пацаны все эти башни и стены облазили: и по подземным ходам, и по поверхности. Поэтому когда местный театр решил поставить на натуре спектакль об обороне Пскова от Батория, псковитяне собрались на мосту - они же знали, откуда враг шел, где он стоял, не раз это сами проигрывали в своем воображении. А режиссер все решил устроить по-своему, внутри стен: вот вам разница между естественным восприятием истории и ее искусственной реконструкцией. Кончилось же все как всегда у нас: встали "патриоты" и сказали: "Здесь люди кровь проливали, а вы тут игрища бесовские устраиваете", привезли из Малов и поставили крест XV века с табличкой - и на этом все закончилось".
Напротив же местного дурдома стоит танк - памятник такой. И пациентов поэтому в Пскове не иначе как танкистами называют. А Невский со дружиною тем временем врага поджидает - авось приплывет, за город даже вышел, Ленин - туда же смотрит, может, добавки ждет от кайзера. Только Пушкин с няней никого не ждет - просто очередную бурю пережидает, где же кружка, думает. И нальет в нее, полагаю, не элдэпээровской бормотухи, а какого-нибудь пунша или шампанского да страсбургской пиццей закусит. Хорошо ему…
Примечания.
1 Маслов А. Пушкин и Ленин. - Псков, 1997.
2 Бах Д., Смирнов В. Немецкие следы в одном русском городе. Псков: от Тевтонского ордена к сегодняшнему партнерству. - Вупперталь - Псков, 1997. - С. 59.
3 Речь: Сб. первый. - Псков, 1996.
| © Русский Журнал, 1998 | russ@russ.ru |