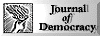 |
 |
Первоначально опубликовано в Journal of Democracy, 1994, vol. 5, № 4, p. 90-103.
 Мынсын Пей - адъюнкт-профессор политологии Принстонского университета. Получил образование в Шанхайском университете международных исследований и докторскую степень - в Гарварде. Автор работы "От реформы к революции: конец коммунизма в Китае и Советском Союзе" (1994).
Мынсын Пей - адъюнкт-профессор политологии Принстонского университета. Получил образование в Шанхайском университете международных исследований и докторскую степень - в Гарварде. Автор работы "От реформы к революции: конец коммунизма в Китае и Советском Союзе" (1994).
 Примечательной тенденцией в мировом политическом и экономическом развитии с начала восьмидесятых годов этого столетия стало распространение политической демократизации и рыночно ориентированных экономических реформ. Во многих случаях демократизация - введение основанной на конкуренции кандидатов выборной системы и расширение участия населения в политической жизни - предшествовала радикальным реформам экономики (макроэкономической стабилизации, структурной перестройке и институциональным изменениям). В число стран, избравших такую последовательность событий, входят Бразилия, Аргентина, Боливия, Турция, Филиппины, Польша, Венгрия, Чехия и Россия. В других странах экономические реформы предшествовали демократизации (Чили, Южная Корея, Тайвань, Таиланд). Несколько авторитарных и коммунистических государств провели только экономические реформы, не сделав ни шага к демократизации (Китай, Вьетнам, Индонезия, Мексика, а также Бирма и Куба, где эти реформы начаты были не так давно и ситуация характеризуется большей неустойчивостью). Некоторые государства третьего мира с давними демократическими традициями (к примеру, Индия, Венесуэла и Коста-Рика) также осуществили экономические реформы с далеко идущими последствиями. Результаты проведения экономических реформ в этих странах стали предметом широкого обсуждения в научной литературе, посвященной проблеме взаимосвязи между типом режима и эффективностью экономических реформ. Однако несмотря на растущее число подобных исследований, до сих пор ни одно из них не установило сколь-нибудь убедительной взаимосвязи, равно как и того, какая именно последовательность реформ дает лучшие результаты относительно всех остальных 1. Примечательной тенденцией в мировом политическом и экономическом развитии с начала восьмидесятых годов этого столетия стало распространение политической демократизации и рыночно ориентированных экономических реформ. Во многих случаях демократизация - введение основанной на конкуренции кандидатов выборной системы и расширение участия населения в политической жизни - предшествовала радикальным реформам экономики (макроэкономической стабилизации, структурной перестройке и институциональным изменениям). В число стран, избравших такую последовательность событий, входят Бразилия, Аргентина, Боливия, Турция, Филиппины, Польша, Венгрия, Чехия и Россия. В других странах экономические реформы предшествовали демократизации (Чили, Южная Корея, Тайвань, Таиланд). Несколько авторитарных и коммунистических государств провели только экономические реформы, не сделав ни шага к демократизации (Китай, Вьетнам, Индонезия, Мексика, а также Бирма и Куба, где эти реформы начаты были не так давно и ситуация характеризуется большей неустойчивостью). Некоторые государства третьего мира с давними демократическими традициями (к примеру, Индия, Венесуэла и Коста-Рика) также осуществили экономические реформы с далеко идущими последствиями. Результаты проведения экономических реформ в этих странах стали предметом широкого обсуждения в научной литературе, посвященной проблеме взаимосвязи между типом режима и эффективностью экономических реформ. Однако несмотря на растущее число подобных исследований, до сих пор ни одно из них не установило сколь-нибудь убедительной взаимосвязи, равно как и того, какая именно последовательность реформ дает лучшие результаты относительно всех остальных 1.
 В равной степени нерезультативными оказались и все дебаты по поводу взаимосвязи между типом режима и темпами экономического роста 2. В силу влияния большого числа факторов во всех этих случаях простые обобщения очень трудно подтвердить эмпирическим путем; причем три таких фактора заслуживают особого внимания.
В равной степени нерезультативными оказались и все дебаты по поводу взаимосвязи между типом режима и темпами экономического роста 2. В силу влияния большого числа факторов во всех этих случаях простые обобщения очень трудно подтвердить эмпирическим путем; причем три таких фактора заслуживают особого внимания.
 Во-первых, сама концепция "политического режима" слишком расплывчата, чтобы ее можно было использовать в качестве каузальной переменной при строгой эмпирической проверке. Классификация типов режима основывается не на анализе не обладающих сущностным характером политических процессов, а на анализе формальных институтов. Эффективность системы управления в разных странах с аналогичными политическими режимами различается самым радикальным образом. В то же время политические режимы, которые имеют основания гордиться своими профессиональными технократическими институтами, хорошо защищенными от социальных и политических влияний, характеризуются более высокой эффективностью управления, чем режимы, таких институтов не имеющие, и это верно вне зависимости от того, демократичен ли режим или авторитарен 3. Поскольку эффективность системы управления в значительной мере определяет результат экономических реформ, эта "режим-нейтральная" качественная переменная только в редких случаях может быть описана количественным образом с такой степенью точности, чтобы удовлетворять жестким стандартам эмпирической проверки.
Во-первых, сама концепция "политического режима" слишком расплывчата, чтобы ее можно было использовать в качестве каузальной переменной при строгой эмпирической проверке. Классификация типов режима основывается не на анализе не обладающих сущностным характером политических процессов, а на анализе формальных институтов. Эффективность системы управления в разных странах с аналогичными политическими режимами различается самым радикальным образом. В то же время политические режимы, которые имеют основания гордиться своими профессиональными технократическими институтами, хорошо защищенными от социальных и политических влияний, характеризуются более высокой эффективностью управления, чем режимы, таких институтов не имеющие, и это верно вне зависимости от того, демократичен ли режим или авторитарен 3. Поскольку эффективность системы управления в значительной мере определяет результат экономических реформ, эта "режим-нейтральная" качественная переменная только в редких случаях может быть описана количественным образом с такой степенью точности, чтобы удовлетворять жестким стандартам эмпирической проверки.
 Во-вторых, исследователи, уделяющие основное внимание типам режима, обычно сосредотачиваются на государстве, не рассматривая при этом роли такой общественной силы, как предприниматели, в обеспечении "низовой" поддержки экономических реформ. Без активной поддержки и энергичных "попутчиков" в лице ключевых общественных групп экономические реформы редко оказываются успешными.
Во-вторых, исследователи, уделяющие основное внимание типам режима, обычно сосредотачиваются на государстве, не рассматривая при этом роли такой общественной силы, как предприниматели, в обеспечении "низовой" поддержки экономических реформ. Без активной поддержки и энергичных "попутчиков" в лице ключевых общественных групп экономические реформы редко оказываются успешными.
 В-третьих, историческая ситуация в целом и начальные экономические и политические условия в частности в значительной степени варьируют от одной реформируемой системы к другой, вследствие чего к любым обобщениям по поводу эффективности экономических реформ следует относиться с предельной осторожностью.
В-третьих, историческая ситуация в целом и начальные экономические и политические условия в частности в значительной степени варьируют от одной реформируемой системы к другой, вследствие чего к любым обобщениям по поводу эффективности экономических реформ следует относиться с предельной осторожностью.
 Сильнейшая экономическая рецессия начала девяностых в России и аналогичные (хотя и менее выраженные) трудности в большинстве бывших коммунистических и авторитарных государств Восточной Европы и Латинской Америки вызвали в этих странах массовую ностальгию по старому политическому устройству и общее недовольство слишком высокой ценой реформ. Всенародное разочарование в реформе экономики привело к поражению на выборах сил, которые ассоциировались с такими реформами в России, Польше и Венгрии. Стремительный взлет экс-коммунистов в большинстве бывших коммунистических стран поставил на повестку дня вопрос о способности демократических правительств справляться со сложными экономическими проблемами в условиях, когда демократизация опережает "маркетизацию".
Сильнейшая экономическая рецессия начала девяностых в России и аналогичные (хотя и менее выраженные) трудности в большинстве бывших коммунистических и авторитарных государств Восточной Европы и Латинской Америки вызвали в этих странах массовую ностальгию по старому политическому устройству и общее недовольство слишком высокой ценой реформ. Всенародное разочарование в реформе экономики привело к поражению на выборах сил, которые ассоциировались с такими реформами в России, Польше и Венгрии. Стремительный взлет экс-коммунистов в большинстве бывших коммунистических стран поставил на повестку дня вопрос о способности демократических правительств справляться со сложными экономическими проблемами в условиях, когда демократизация опережает "маркетизацию".
 В то же время получивший более чем широкое освещение в прессе процесс успешной структурной реформы экономики в таких авторитарных или коммунистических государствах, как Китай, Вьетнам, Индонезия, Мексика, Перу и Бирма, привел многих исследователей к мысли, что проведение рыночно ориентированных реформ прежде демократизации является безусловно лучшей альтернативой.
В то же время получивший более чем широкое освещение в прессе процесс успешной структурной реформы экономики в таких авторитарных или коммунистических государствах, как Китай, Вьетнам, Индонезия, Мексика, Перу и Бирма, привел многих исследователей к мысли, что проведение рыночно ориентированных реформ прежде демократизации является безусловно лучшей альтернативой.
 Теперь, когда девяностые уже перевалили за середину, становится ясно, что структурная реформа экономики в бывших коммунистических и авторитарных странах займет немалое время и столкнется с множеством до сих пор еще неведомых препятствий - и потому мы должны еще раз вернуться к вопросу о последовательности реформ в переживающих процесс демократизации автократических обществах.
Теперь, когда девяностые уже перевалили за середину, становится ясно, что структурная реформа экономики в бывших коммунистических и авторитарных странах займет немалое время и столкнется с множеством до сих пор еще неведомых препятствий - и потому мы должны еще раз вернуться к вопросу о последовательности реформ в переживающих процесс демократизации автократических обществах.
Три пути перемен
 В общем случае смена экономической и политической системы (т.е. "двойной переход") может происходить по любому из трех возможных путей: а) кратчайший (одновременные демократизация и рыночно ориентированные реформы, осуществляемые старым режимом); б) автократический (экономические реформы осуществляются до или даже вместо демократизации); в) демократический (демократизация происходит прежде экономических реформ) 4. В развивающихся странах некоммунистической ориентации последовательность этапов "двойного перехода", осуществлявшегося с начала восьмидесятых годов, заметно варьировалась; кроме того, выяснилось, что исходя только из уровня развития страны невозможно достоверно предсказать, по какому пути реформ она пойдет. "Двойной переход" в бывших коммунистических государствах, начавшийся с конца семидесятых, характеризовался более четким паттерном: менее развитые, сформировавшиеся по внутренним причинам коммунистические режимы вне европейской части земного шара (например, Китай, Вьетнам или Куба) предпочли автократический путь, тогда как находившиеся на более высокой ступени развития европейские коммунистические режимы (в основном насаждавшиеся Советским Союзом, за исключением Албании и, конечно, самого СССР) избрали демократический путь. Кратчайший путь, предполагавший одновременную политическую и экономическую реформу, не был избран ни одной страной. В общем случае смена экономической и политической системы (т.е. "двойной переход") может происходить по любому из трех возможных путей: а) кратчайший (одновременные демократизация и рыночно ориентированные реформы, осуществляемые старым режимом); б) автократический (экономические реформы осуществляются до или даже вместо демократизации); в) демократический (демократизация происходит прежде экономических реформ) 4. В развивающихся странах некоммунистической ориентации последовательность этапов "двойного перехода", осуществлявшегося с начала восьмидесятых годов, заметно варьировалась; кроме того, выяснилось, что исходя только из уровня развития страны невозможно достоверно предсказать, по какому пути реформ она пойдет. "Двойной переход" в бывших коммунистических государствах, начавшийся с конца семидесятых, характеризовался более четким паттерном: менее развитые, сформировавшиеся по внутренним причинам коммунистические режимы вне европейской части земного шара (например, Китай, Вьетнам или Куба) предпочли автократический путь, тогда как находившиеся на более высокой ступени развития европейские коммунистические режимы (в основном насаждавшиеся Советским Союзом, за исключением Албании и, конечно, самого СССР) избрали демократический путь. Кратчайший путь, предполагавший одновременную политическую и экономическую реформу, не был избран ни одной страной.
 Автократические режимы, осуществившие в восьмидесятые годы неолиберальные экономические реформы - либерализацию цен, децентрализацию экономики, переориентацию на экспорт, приватизацию и переход к более консервативной фискальной политике, - коренным образом отличались от авторитарных режимов шестидесятых и семидесятых, ориентировавшихся на замещение импорта внутренним производством, государственное регулирование, развитие государственных предприятий и фискальный экспансионизм. Новые авторитарные режимы, взявшие на вооружение принципы рыночной экономики, можно назвать неоавтократическими. На сегодняшний день избранная такими режимами последовательность перехода, в рамках которой капитализм вводится раньше демократии, похоже, уже дала сенсационные экономические результаты в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. Но значит ли это, что автократический путь является наиболее эффективным вариантом либерализации экономики?
Автократические режимы, осуществившие в восьмидесятые годы неолиберальные экономические реформы - либерализацию цен, децентрализацию экономики, переориентацию на экспорт, приватизацию и переход к более консервативной фискальной политике, - коренным образом отличались от авторитарных режимов шестидесятых и семидесятых, ориентировавшихся на замещение импорта внутренним производством, государственное регулирование, развитие государственных предприятий и фискальный экспансионизм. Новые авторитарные режимы, взявшие на вооружение принципы рыночной экономики, можно назвать неоавтократическими. На сегодняшний день избранная такими режимами последовательность перехода, в рамках которой капитализм вводится раньше демократии, похоже, уже дала сенсационные экономические результаты в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. Но значит ли это, что автократический путь является наиболее эффективным вариантом либерализации экономики?
 Действительно, "восточноазиатский феномен" бросает серьезный идеологический, интеллектуальный и политический вызов тем, кто озабочен развитием как демократии, так и рыночной экономики во всем мире, поскольку заставляет предположить, что последнее вполне может обойтись без первого.
Действительно, "восточноазиатский феномен" бросает серьезный идеологический, интеллектуальный и политический вызов тем, кто озабочен развитием как демократии, так и рыночной экономики во всем мире, поскольку заставляет предположить, что последнее вполне может обойтись без первого.
|

