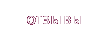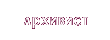|  |

 Для нынешних нас Слово прекратило существование в качестве обозначения предмета, реальности покуда ниоткуда не видно, не она является нашей жизненной средой. В современную жизнь трудно глубоко проникать, с ней вообще негде разобраться. И мало-мальски серьезный литератор, не найдя "двух-трех великих людей" среди своих друзей, начинает писать о себе. Людям свойственно встречаться. Поэт и гражданин, как встарь у гастронома, теперь встречаются в текстах.
Для нынешних нас Слово прекратило существование в качестве обозначения предмета, реальности покуда ниоткуда не видно, не она является нашей жизненной средой. В современную жизнь трудно глубоко проникать, с ней вообще негде разобраться. И мало-мальски серьезный литератор, не найдя "двух-трех великих людей" среди своих друзей, начинает писать о себе. Людям свойственно встречаться. Поэт и гражданин, как встарь у гастронома, теперь встречаются в текстах.
 Это могут быть и рассказы, но не в литературоведческом понимании, а те рассказы, какими, случалось, дарили друг друга близкие собеседники, если у них доставало времени сидеть часами друг напротив друга. Дневниковые повести, письма в инстанции, и записки о благоустройстве нашего государства ("После моей смерти передашь Государю") и афористичные жанры надписей на заборе.
Это могут быть и рассказы, но не в литературоведческом понимании, а те рассказы, какими, случалось, дарили друг друга близкие собеседники, если у них доставало времени сидеть часами друг напротив друга. Дневниковые повести, письма в инстанции, и записки о благоустройстве нашего государства ("После моей смерти передашь Государю") и афористичные жанры надписей на заборе.
 Между текстами нет принципиальной разницы, поскольку автора в них интересует не предмет, а процесс письма. Как объяснил Д. Галковский: "Откровенно говоря, мне почти все равно, о чем писать, главное - как". Текст, как мелвилловский кит, становится главным героем, таким, по сравнению с которым остальные, если даже попытаться их нарисовать, - несопоставимо ничтожны, а, следовательно, излишни. Основным сюжетом таких произведений кажется процесс возникновения текста. Ходом событий движет накопление и приращение информации.
Между текстами нет принципиальной разницы, поскольку автора в них интересует не предмет, а процесс письма. Как объяснил Д. Галковский: "Откровенно говоря, мне почти все равно, о чем писать, главное - как". Текст, как мелвилловский кит, становится главным героем, таким, по сравнению с которым остальные, если даже попытаться их нарисовать, - несопоставимо ничтожны, а, следовательно, излишни. Основным сюжетом таких произведений кажется процесс возникновения текста. Ходом событий движет накопление и приращение информации.
 Мало кто из прочитавших "Бесконечный тупик" оказался неравнодушен к этой захватывающей, затягивающей композиции, когда основная статья - как железная дорога, быстро проносит мимо чего-то, что могло бы показаться интересным или нет, если бы удалось разглядеть. И вот мы отправляемся в повторные путешествия по рельсам текста, выходим из поезда на каждой станции, и идем осматривать окрестности. При этом, как водится, плутаем, спрашиваем у всех дорогу, пока не будем посланы встречным в сторону иную и не окажемся, наконец, у железнодорожных путей. Там опять садимся в вагон, но поезд идет обратно, и вообще это не та дорога, с которой мы начинали! Так продвигаешься вперед, и карманы пухнут от билетиков.
Мало кто из прочитавших "Бесконечный тупик" оказался неравнодушен к этой захватывающей, затягивающей композиции, когда основная статья - как железная дорога, быстро проносит мимо чего-то, что могло бы показаться интересным или нет, если бы удалось разглядеть. И вот мы отправляемся в повторные путешествия по рельсам текста, выходим из поезда на каждой станции, и идем осматривать окрестности. При этом, как водится, плутаем, спрашиваем у всех дорогу, пока не будем посланы встречным в сторону иную и не окажемся, наконец, у железнодорожных путей. Там опять садимся в вагон, но поезд идет обратно, и вообще это не та дорога, с которой мы начинали! Так продвигаешься вперед, и карманы пухнут от билетиков.
 "Вроде бы книга, в трех частях, с примечаниями. Все чин-чинарем, а написано совсем "не о том". О чем книга? О Розанове? Нет. Если сначала сказать, что вот книга о Розанове, то интуитивное читательское предусматривание не оправдается. Будет ожидаться что-то иное... Может быть, книга не о Розанове? Но нет, все же о нем. Наверное, в словах, особенно в русских, есть какая-то порочная пустота. Во сне смотришь на дерево и знаешь, что это конфетная обертка, плавающая в луже, то есть вчерашний день в гостях. Нелепость какая-то. Подозрительность".
"Вроде бы книга, в трех частях, с примечаниями. Все чин-чинарем, а написано совсем "не о том". О чем книга? О Розанове? Нет. Если сначала сказать, что вот книга о Розанове, то интуитивное читательское предусматривание не оправдается. Будет ожидаться что-то иное... Может быть, книга не о Розанове? Но нет, все же о нем. Наверное, в словах, особенно в русских, есть какая-то порочная пустота. Во сне смотришь на дерево и знаешь, что это конфетная обертка, плавающая в луже, то есть вчерашний день в гостях. Нелепость какая-то. Подозрительность".
 Потенциальный читатель (и редактор) такого текста - человек, который живет и мыслит в литературно-философских ассоциациях, для которого Розанов, Порфирий Петрович, Достоевский, вареный лук, кот Мури, английский посланник, немецкий посланник и я - они все равны перед листом бумаги, все из него созданы и в него же и канут.
Потенциальный читатель (и редактор) такого текста - человек, который живет и мыслит в литературно-философских ассоциациях, для которого Розанов, Порфирий Петрович, Достоевский, вареный лук, кот Мури, английский посланник, немецкий посланник и я - они все равны перед листом бумаги, все из него созданы и в него же и канут.
 Много намеков на вещи нам с тобой одним, читатель мой, понятных. Как, вам не понятно? Значит вы не мой читатель. Моим всем понятно.
Много намеков на вещи нам с тобой одним, читатель мой, понятных. Как, вам не понятно? Значит вы не мой читатель. Моим всем понятно.
 Формируются локальные островки литературы. Журналы приближаются к изданию в одном экземпляре - для показа спонсорам и близким знакомым.
Формируются локальные островки литературы. Журналы приближаются к изданию в одном экземпляре - для показа спонсорам и близким знакомым.
 Эта лирическая публицистика - "...вполне своеобразное смешение собственной судьбы или собственной истории с загадочной русской душой, русской идеей и прочим национальным колоритом" (1). Вместо того, чтоб мучиться из-за своей невписанности в общечеловеческий контекст, можно вписать самому. "Мы на роли героев вводили себя". Самым продуктивым жанром становится развернутая автобиография (2) - импульс для создания текста собственного.
Эта лирическая публицистика - "...вполне своеобразное смешение собственной судьбы или собственной истории с загадочной русской душой, русской идеей и прочим национальным колоритом" (1). Вместо того, чтоб мучиться из-за своей невписанности в общечеловеческий контекст, можно вписать самому. "Мы на роли героев вводили себя". Самым продуктивым жанром становится развернутая автобиография (2) - импульс для создания текста собственного.
 Cозидаются "романы воспитания" текста. Текст рождается, растет, набирается опыта, приходится рассматривать все уровни бытия текста, его жизненный путь, во встречах с другими текстами-персонажами. Он и становится главным героем повествования. Новый роман - целая законспектированная библиотечка при хиленьким сюжете, на который нанизывается все больше тем, идей, целых романов, но в непереработанном, сжатом до фразы, виде. Сколько всякой исторически-интеллектуальной чепухи - эту кучу так интересно разгребать, повторяя джойсовское "приятно владеть всем этим". Единственные слабые и неинтересные места это попытки интриги и детективности в изложении - на очной ставке текста и интриги, интрига проигрывает.
Cозидаются "романы воспитания" текста. Текст рождается, растет, набирается опыта, приходится рассматривать все уровни бытия текста, его жизненный путь, во встречах с другими текстами-персонажами. Он и становится главным героем повествования. Новый роман - целая законспектированная библиотечка при хиленьким сюжете, на который нанизывается все больше тем, идей, целых романов, но в непереработанном, сжатом до фразы, виде. Сколько всякой исторически-интеллектуальной чепухи - эту кучу так интересно разгребать, повторяя джойсовское "приятно владеть всем этим". Единственные слабые и неинтересные места это попытки интриги и детективности в изложении - на очной ставке текста и интриги, интрига проигрывает.
 Но автобиографию можно написать один раз (3), или растянуть по эпизодам на серию лирических рассказов (4), а где найти героя, кроме себя?
Но автобиографию можно написать один раз (3), или растянуть по эпизодам на серию лирических рассказов (4), а где найти героя, кроме себя?
 И он был найден, этот герой.
И он был найден, этот герой.
 В романе Валерии Нарбиковой "...и путешествие" (5) он первый сам заявляет о себе:
В романе Валерии Нарбиковой "...и путешествие" (5) он первый сам заявляет о себе:
 "Написать роман о себе самом на себе самом - не так просто. Потому что героем романа и являюсь Я - Язык. Это я - герой, а не они. Они персонажи, они простые люди в книжке. Это на мне они говорят, мною они любят и дышат. Я - им все: воздух, вода, тепло, только в виде языка. Без меня бы они погибли тут же. Я такой же для них главный, как солнце. Я даже главнее мамы для них. Но я так же и беззащитен. И перед этими персонажами. И перед автором. С автором у нас любовь, мучение и страсть. Как же иногда автор мучает меня, как терзает, но он меня любит. Я тоже мучаю автора, он такой же беззащитный, как и я, такой же нежный. Но так, как меня терзают порой персонажи, так даже автор не обращается со мной".
"Написать роман о себе самом на себе самом - не так просто. Потому что героем романа и являюсь Я - Язык. Это я - герой, а не они. Они персонажи, они простые люди в книжке. Это на мне они говорят, мною они любят и дышат. Я - им все: воздух, вода, тепло, только в виде языка. Без меня бы они погибли тут же. Я такой же для них главный, как солнце. Я даже главнее мамы для них. Но я так же и беззащитен. И перед этими персонажами. И перед автором. С автором у нас любовь, мучение и страсть. Как же иногда автор мучает меня, как терзает, но он меня любит. Я тоже мучаю автора, он такой же беззащитный, как и я, такой же нежный. Но так, как меня терзают порой персонажи, так даже автор не обращается со мной".
 "Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий", кто же, как не он один, нам поддержка и опора, и это не собственный зад. Это "великий, могучий, правдивый и свободный". Мы уже давно перестали быть и считать себя такими. А он таким - остался. За одно это он достоин поэмы.
"Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий", кто же, как не он один, нам поддержка и опора, и это не собственный зад. Это "великий, могучий, правдивый и свободный". Мы уже давно перестали быть и считать себя такими. А он таким - остался. За одно это он достоин поэмы.
 Но есть и другая сторона события. Это обличение, или констатация состояния мира, среды обитания современного человека, который является объектом наблюдения в поисках признаков персонажности. Люди становятся похожи на порождение текстовых крокодилов.
Но есть и другая сторона события. Это обличение, или констатация состояния мира, среды обитания современного человека, который является объектом наблюдения в поисках признаков персонажности. Люди становятся похожи на порождение текстовых крокодилов.
 Язык, печатное слово для них посредник между ними и жизнью. И поэтому других героев, способных, ну не сравняться, но хоть соотнестись по значимости с героем-языком, в романе Нарбиковой нет. Другие не тянут на персонажей романа, скорее это действующие лица притчи. Автор позволяет себе производить подобных гомункулов, только потому, что он создает не свой мир, не новую реальность, а откровенный вымысел. Запутанные отношения с собственным языком и пытается вскрыть роман.
Язык, печатное слово для них посредник между ними и жизнью. И поэтому других героев, способных, ну не сравняться, но хоть соотнестись по значимости с героем-языком, в романе Нарбиковой нет. Другие не тянут на персонажей романа, скорее это действующие лица притчи. Автор позволяет себе производить подобных гомункулов, только потому, что он создает не свой мир, не новую реальность, а откровенный вымысел. Запутанные отношения с собственным языком и пытается вскрыть роман.
 Никакой сюжет не в состоянии соперничать с интеллектуальной болтовней самого текста.
Никакой сюжет не в состоянии соперничать с интеллектуальной болтовней самого текста.
 Слово может пожить немного, став просто набором "слишком большого числа букв", но оно начинает чахнуть. Чтобы не растаять, слово приобретает другое значение: оно - с с ы л к а , при его упоминании в сознании возникает номер страницы, окружающая его фраза из прочитанных авторов.
Слово может пожить немного, став просто набором "слишком большого числа букв", но оно начинает чахнуть. Чтобы не растаять, слово приобретает другое значение: оно - с с ы л к а , при его упоминании в сознании возникает номер страницы, окружающая его фраза из прочитанных авторов.
 Мы выросли в книгах, и вросли в них, мы мыслим цитатами. Цитаты не разрушают ткань текста, они вживляются в него, как искусственные органы, на место атрофированных еще в младенчестве своих. "Каждая цитата - зеркальце, отбрасывающее на меня солнечный зайчик. В результате, сквозь словесный туман проступают внутренние контуры моего сознания" (6) - взамен настоящего, сгнившего давно в подвалах запасников.
Мы выросли в книгах, и вросли в них, мы мыслим цитатами. Цитаты не разрушают ткань текста, они вживляются в него, как искусственные органы, на место атрофированных еще в младенчестве своих. "Каждая цитата - зеркальце, отбрасывающее на меня солнечный зайчик. В результате, сквозь словесный туман проступают внутренние контуры моего сознания" (6) - взамен настоящего, сгнившего давно в подвалах запасников.
 "Всюду цитаты. На вокзале - ямбы. В магазине перефраз. На заборе рифмы: Шура-дура. И все самые смышленые, все самые-самые пользуются плакатами, это их гнездо, их они обсасывают, высасывают и отсасывают".
"Всюду цитаты. На вокзале - ямбы. В магазине перефраз. На заборе рифмы: Шура-дура. И все самые смышленые, все самые-самые пользуются плакатами, это их гнездо, их они обсасывают, высасывают и отсасывают".
 Коллажное заполнение текста цитатами лишает журналиста, читателя и писателя (трое в одном лице) последних различий, превращая процесс писания в скандирование любимых отрывков.
Коллажное заполнение текста цитатами лишает журналиста, читателя и писателя (трое в одном лице) последних различий, превращая процесс писания в скандирование любимых отрывков.
 Начало непременно такое: "Однажды в студеную зимнюю пору шел поезд". Среди списка начал, заученных клише, типа "жили-были", "в некотором царстве", и т.д. выбирается одно - и дальше сама пойдет, ведя прочно приклеенные за собой, как за гусем из сказки Братьев Гримм, строчки. Эти полуцитаты нельзя даже закавычить, они не вставные, они давно уже настолько въелись в наше сознание, что неизвестно, осталось ли там еще что-то, кроме них. И когда пушкинскую цитату: "Чем больше женщину мы любим..." затаскали до засаленной ветхости, превратили в штамп, ничего другого не остается, как: "чем больше женщину мы больше, тем меньше мы поменьше ей".
Начало непременно такое: "Однажды в студеную зимнюю пору шел поезд". Среди списка начал, заученных клише, типа "жили-были", "в некотором царстве", и т.д. выбирается одно - и дальше сама пойдет, ведя прочно приклеенные за собой, как за гусем из сказки Братьев Гримм, строчки. Эти полуцитаты нельзя даже закавычить, они не вставные, они давно уже настолько въелись в наше сознание, что неизвестно, осталось ли там еще что-то, кроме них. И когда пушкинскую цитату: "Чем больше женщину мы любим..." затаскали до засаленной ветхости, превратили в штамп, ничего другого не остается, как: "чем больше женщину мы больше, тем меньше мы поменьше ей".
 Собранные вместе как на параде, двадцать четыре эпитета к слову "народ" уже перестают выражать что-то конкретное, они обессмыслены этим количеством. А ведь встречая их по отдельности, человек еще верит, способен считать это мнением, соглашаться или не соглашаться - хотя это просто слова - несколько знаков на бумаге, поставленные в ряд. И даже необязательно ставить их в традиционном порядке, для облегчения узнавания. Можно как угодно - "небритый-не-даже-плейбой"; или даже путая беззащитному герою руки-ноги: "Ти-ни-ша." Или истязая слово постепенным отрезанием хвоста по кусочкам: "На автобусной стоянке стояли, тояли, ояли, яли, ли и замерзли" (7).
Собранные вместе как на параде, двадцать четыре эпитета к слову "народ" уже перестают выражать что-то конкретное, они обессмыслены этим количеством. А ведь встречая их по отдельности, человек еще верит, способен считать это мнением, соглашаться или не соглашаться - хотя это просто слова - несколько знаков на бумаге, поставленные в ряд. И даже необязательно ставить их в традиционном порядке, для облегчения узнавания. Можно как угодно - "небритый-не-даже-плейбой"; или даже путая беззащитному герою руки-ноги: "Ти-ни-ша." Или истязая слово постепенным отрезанием хвоста по кусочкам: "На автобусной стоянке стояли, тояли, ояли, яли, ли и замерзли" (7).
 Сразу вспоминаются "Вротердам" М. Гиголашвили и рассказы Ю. Буйды (8) "Ястобой" - не путать с "я с тобой", когда мы вместе, но все же разделены пробелами - и "Хвост Хрст", явно посвященной незабвенной "глокой куздре": "А иной раз откровенно хрсто. Грустно. Я ли его не охрстивал? Я ль не выхрсталял? ... И с К. они уже хрстят свободно. Пожалуй, даже более свободно, чем получалось у нее со мною. Ну да ладно, лишь бы не хрстанули. Тогда и мне хрстится. Господи, как хрстится".
Сразу вспоминаются "Вротердам" М. Гиголашвили и рассказы Ю. Буйды (8) "Ястобой" - не путать с "я с тобой", когда мы вместе, но все же разделены пробелами - и "Хвост Хрст", явно посвященной незабвенной "глокой куздре": "А иной раз откровенно хрсто. Грустно. Я ли его не охрстивал? Я ль не выхрсталял? ... И с К. они уже хрстят свободно. Пожалуй, даже более свободно, чем получалось у нее со мною. Ну да ладно, лишь бы не хрстанули. Тогда и мне хрстится. Господи, как хрстится".
 Даже стихи прекрасны, если, по-иностранному, не понимать из них ни одного слова. И отвратительны до тошноты, если понимать. Этот маленький недостаток слова пытаются стереть.
Даже стихи прекрасны, если, по-иностранному, не понимать из них ни одного слова. И отвратительны до тошноты, если понимать. Этот маленький недостаток слова пытаются стереть.

(1) Из романа В. Шарова "Мне ли не пожалеть..."
Вернуться
(2) М.Веллер "Самовар" - вереница, стилизованных под "авто", биографий людей, теми или иными путями превращенных в обрубки под влиянием советской действительности.
Трилогия А. Битова "Оглашенные", завершенная пофамильным списком друзей с благодарностью за предоставленный материал.
"Неуправляемое сочинение" Даниила Данина "Бремя стыда" с подзаголовком "Пастернак и мы".
Серия "Мой ХХ век". Продолжать?
Вернуться
(3) Андрей Сергеев "Альбом для марок". Коллекция людей, вещей, слов и отношений (1936-1956). Даты, ограничивающие объем временными рамками неслучайны - видимо, предполагается второй том (1957-?).
Вернуться
(4) Как это делает В. Санчук, то в стихах, то в прозе ("Знамя" N12 за 1995 г. и N6 за 1996 г.)
Вернуться
(5) "Знамя" N 6 за 1996 г.
Вернуться
(6) Д. Галковский
Вернуться
(7) Цитата из романа В. Нарбиковой "План первого лица. И второго".
Вернуться
(8) "Знамя" N 4 за 1995 г.
Вернуться
|