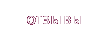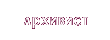|
 |
 1. Интеллигенция и литература.
1. Интеллигенция и литература.
(Пушкин или пепси-кола)
 Русская литература - порождение русской интеллигенции. Интеллигенция создала миф Великой литературы и сама же этот миф разрушила. Народ не хочет нести с базара ни Гоголя, ни Белинского, но народ и базар в этом виноваты меньше всего.
Русская литература - порождение русской интеллигенции. Интеллигенция создала миф Великой литературы и сама же этот миф разрушила. Народ не хочет нести с базара ни Гоголя, ни Белинского, но народ и базар в этом виноваты меньше всего.
 В этой фразе Некрасова меня всегда поражало соседство Гоголя и Белинского. Почему покупателю надо нести Белинского с базара? Почему Гоголя - понятно. А вот Белинского зачем?
В этой фразе Некрасова меня всегда поражало соседство Гоголя и Белинского. Почему покупателю надо нести Белинского с базара? Почему Гоголя - понятно. А вот Белинского зачем?
 Интеллигенция, создавшая миф литературы, тем не менее всегда этой литературы боялась, как мирянин Бога. Бог хорош на иконе или на небе; в реальной жизни находиться рядом с Богом довольно тяжело. Не очень приятно смотреть, как Бог спит, ест, считает деньги, удачно или неудачно ухаживает за девушками... Поэтому между Богом (Гоголем) и народом нужен посредник - Белинский. Посредник - не то ангел, не то бес, не то просто непонятно кто, но пусть лучше будет такой, чем вообще никакого; мирянину (интеллигентному читателю) страшно оставаться наедине с Богом. Другое дело, что посредник оказался хреновый и в итоге превратил Бога в заурядного сельского священника.
Интеллигенция, создавшая миф литературы, тем не менее всегда этой литературы боялась, как мирянин Бога. Бог хорош на иконе или на небе; в реальной жизни находиться рядом с Богом довольно тяжело. Не очень приятно смотреть, как Бог спит, ест, считает деньги, удачно или неудачно ухаживает за девушками... Поэтому между Богом (Гоголем) и народом нужен посредник - Белинский. Посредник - не то ангел, не то бес, не то просто непонятно кто, но пусть лучше будет такой, чем вообще никакого; мирянину (интеллигентному читателю) страшно оставаться наедине с Богом. Другое дело, что посредник оказался хреновый и в итоге превратил Бога в заурядного сельского священника.
 Но, собственно говоря, критика и создала миф Великой Русской Литературы, оставаясь постоянным и полномочным посланником интеллигенции в литературе, который заодно выполняет и функции надзирателя.
Но, собственно говоря, критика и создала миф Великой Русской Литературы, оставаясь постоянным и полномочным посланником интеллигенции в литературе, который заодно выполняет и функции надзирателя.
 Как таковой литературной критики в России никогда не было в принципе. Критический дискурс в России, как и интеллигентский, никогда не был точно артикулирован. Закодированный, он состоит в основном из междометий, катастрофически убогой лексики и намеков на плохой политический режим. Постороннему человеку, плохо знакомому с особенностями русской национальной литературной души, ориентироваться в нем так же сложно, как папуасу в переулках Замоскворечья.
Как таковой литературной критики в России никогда не было в принципе. Критический дискурс в России, как и интеллигентский, никогда не был точно артикулирован. Закодированный, он состоит в основном из междометий, катастрофически убогой лексики и намеков на плохой политический режим. Постороннему человеку, плохо знакомому с особенностями русской национальной литературной души, ориентироваться в нем так же сложно, как папуасу в переулках Замоскворечья.
 Именно критический дискурс и сформировал русский либеральный дискурс. Либерализм в русском его варианте не имеет никакого отношения к западному либерализму. Если западный либерализм как идеология означает уважение большинства к меньшинству, то русский либерализм означает навязывание взглядов меньшинства большинству. Белинский был навязан России как целая национальная идеология, имеющая к тому же высокую рыночную (по Некрасову - базарную) стоимость.
Именно критический дискурс и сформировал русский либеральный дискурс. Либерализм в русском его варианте не имеет никакого отношения к западному либерализму. Если западный либерализм как идеология означает уважение большинства к меньшинству, то русский либерализм означает навязывание взглядов меньшинства большинству. Белинский был навязан России как целая национальная идеология, имеющая к тому же высокую рыночную (по Некрасову - базарную) стоимость.
 Все комплексы русской интеллигенции отразились на литературе. Интеллигенции всегда хотелось сделать из литературы монастырь. Литература, как и монастырь, никак не должна быть совмещена с нормальной светской жизнью. Конечно, Пушкин никогда не пил шампанское - он пил только святую воду. И пепси-колу Пушкин бы не стал пить. Зачем святому духу земная плоть? Для интеллигента пепси-кола не просто популярный напиток, а признак антидуховности, оскорбление Пушкина, оскорбление святая святых русской литературы; светским наслаждениям не место в монастырской келье.
Все комплексы русской интеллигенции отразились на литературе. Интеллигенции всегда хотелось сделать из литературы монастырь. Литература, как и монастырь, никак не должна быть совмещена с нормальной светской жизнью. Конечно, Пушкин никогда не пил шампанское - он пил только святую воду. И пепси-колу Пушкин бы не стал пить. Зачем святому духу земная плоть? Для интеллигента пепси-кола не просто популярный напиток, а признак антидуховности, оскорбление Пушкина, оскорбление святая святых русской литературы; светским наслаждениям не место в монастырской келье.
 В монастырь интеллигенцию тянуло всегда, в литературный монастырь, вместивший и светскую библиотеку, и публичный дом.
В монастырь интеллигенцию тянуло всегда, в литературный монастырь, вместивший и светскую библиотеку, и публичный дом.
 И, конечно, интеллигенция всегда мечтала о власти, одновременно презирая способы достижения власти. Интеллигенция требовала власть довольно своеобразно - не восклицательными предложениями, а теми самыми знаменитыми вопросами, придуманными критиками, на которые до сих пор довольно сложно дать хотя бы приблизительный ответ: "Что делать?", "Кто виноват?", "Когда же придет настоящий день?" и т.д.
И, конечно, интеллигенция всегда мечтала о власти, одновременно презирая способы достижения власти. Интеллигенция требовала власть довольно своеобразно - не восклицательными предложениями, а теми самыми знаменитыми вопросами, придуманными критиками, на которые до сих пор довольно сложно дать хотя бы приблизительный ответ: "Что делать?", "Кто виноват?", "Когда же придет настоящий день?" и т.д.
 Интеллигенция всегда хотела от литературы немедленного и конкретного политического результата. Но литературе было не под силу изменить монархию без конституции на монархию с конституцией, а советскую власть - на президентскую республику. И тогда объявляли, что "у нас нет литературы".
Интеллигенция всегда хотела от литературы немедленного и конкретного политического результата. Но литературе было не под силу изменить монархию без конституции на монархию с конституцией, а советскую власть - на президентскую республику. И тогда объявляли, что "у нас нет литературы".
 На помощь литературе спешила драматургия. В пьесах висящие ружья и лопнувшие струны создавали иллюзию прямого действия и близкой политической свободы, правда, став при этом акушерами появления на свет нового интеллигентского комплекса - комплекса драматического театра как университета жизни. Все, что интеллигенция не успела "повесить" на литературу, она в полной мере "повесила" на театр. Опере с балетом повезло больше: в России опера и балет остались вне пределов интеллигентского сознания. А вот драматический театр спасти не удалось. Задавленный полностью, он сделался отводным каналом и выгребной ямой литературы.
На помощь литературе спешила драматургия. В пьесах висящие ружья и лопнувшие струны создавали иллюзию прямого действия и близкой политической свободы, правда, став при этом акушерами появления на свет нового интеллигентского комплекса - комплекса драматического театра как университета жизни. Все, что интеллигенция не успела "повесить" на литературу, она в полной мере "повесила" на театр. Опере с балетом повезло больше: в России опера и балет остались вне пределов интеллигентского сознания. А вот драматический театр спасти не удалось. Задавленный полностью, он сделался отводным каналом и выгребной ямой литературы.
 Апофеозом претензий интеллигенции к власти стали шестидесятники. Шестидесятники - не совсем, конечно, люди. Безусловно, это Боги, сошедшие с небес на землю. Я до сих пор боюсь Евтушенко. Почему - не знаю, но боюсь. Солженицына уже не боюсь. Ростроповича
не боюсь. Глазунова не боюсь. Кобзона и Любимова не боюсь. А вот Евтушенко боюсь. И, наверное, буду бояться всегда.
Апофеозом претензий интеллигенции к власти стали шестидесятники. Шестидесятники - не совсем, конечно, люди. Безусловно, это Боги, сошедшие с небес на землю. Я до сих пор боюсь Евтушенко. Почему - не знаю, но боюсь. Солженицына уже не боюсь. Ростроповича
не боюсь. Глазунова не боюсь. Кобзона и Любимова не боюсь. А вот Евтушенко боюсь. И, наверное, буду бояться всегда.
 Говорить о шестидесятниках в единственном числе сложно. Они стали последним коллективным бессознательным восклицательным знаком русской культуры в самом ее классическом, самом одиозно пафосном смысле. Если поколению суждено написать один какой-то метатекст, то "Евгения Онегина", конечно, шестидесятники не написали. Но либретто к опере "Евгений Онегин", безусловно, за ними. Шестидесятники - сторожевые псы и последние защитники пафоса русской литературы, отчетливо выразивших негласный кодекс русского культурного сознания: "Нет пафоса - нет литературы".
Говорить о шестидесятниках в единственном числе сложно. Они стали последним коллективным бессознательным восклицательным знаком русской культуры в самом ее классическом, самом одиозно пафосном смысле. Если поколению суждено написать один какой-то метатекст, то "Евгения Онегина", конечно, шестидесятники не написали. Но либретто к опере "Евгений Онегин", безусловно, за ними. Шестидесятники - сторожевые псы и последние защитники пафоса русской литературы, отчетливо выразивших негласный кодекс русского культурного сознания: "Нет пафоса - нет литературы".
 С шестидесятниками уйдет все. Никто уже не будет помнить имени-отчества Пушкина. Памятники Грибоедову и Маяковскому снесут просто так, случайно. Третьяковская галерея станет дорогим ночным борделем. В консерватории откроется автомобильный салон, где вместо тапера покупателей будет развлекать симфонический оркестр. Над светлой памятью Достоевского надругаются рейверы и трансвеститы. Вся надежда на постаревших постмодернистов, которые отстоят Достоевского и покажут рейверам и трансвеститам, как надо любить русскую литературу.
С шестидесятниками уйдет все. Никто уже не будет помнить имени-отчества Пушкина. Памятники Грибоедову и Маяковскому снесут просто так, случайно. Третьяковская галерея станет дорогим ночным борделем. В консерватории откроется автомобильный салон, где вместо тапера покупателей будет развлекать симфонический оркестр. Над светлой памятью Достоевского надругаются рейверы и трансвеститы. Вся надежда на постаревших постмодернистов, которые отстоят Достоевского и покажут рейверам и трансвеститам, как надо любить русскую литературу.
 Никогда разрыв интеллигенции с зоной современной литературы не был так безнадежно катастрофичен, как сегодня. Интеллигенция отвернулась от актуальной литературы, как от заразного больного. Те же шестидесятники в свое время, когда они были какими-никакими актуальными писателями, такого разрыва не ощущали. Но теперь их уход воспринимается как Апокалипсис.
Никогда разрыв интеллигенции с зоной современной литературы не был так безнадежно катастрофичен, как сегодня. Интеллигенция отвернулась от актуальной литературы, как от заразного больного. Те же шестидесятники в свое время, когда они были какими-никакими актуальными писателями, такого разрыва не ощущали. Но теперь их уход воспринимается как Апокалипсис.
 Отвращение интеллигенции к актуальному писателю имеет вполне резонные основания. Не добившись власти, она всегда хотела показать всему окружающему половой член. С репрезентацией полового члена всему окружающему не выходило по довольно простой причине: интеллигенция по определению не может иметь четко выраженных половых признаков. Ведь это душа, а душа, как вода, не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, ни четко выраженных половых признаков. Ленин, называя интеллигенцию "дерьмом", сделал ей комплимент, так и не оцененный ею. Ведь дерьмо имеет все то, чего так не хватает интеллигенции и воде - и вкус, и цвет, и запах, и многое другое.
Отвращение интеллигенции к актуальному писателю имеет вполне резонные основания. Не добившись власти, она всегда хотела показать всему окружающему половой член. С репрезентацией полового члена всему окружающему не выходило по довольно простой причине: интеллигенция по определению не может иметь четко выраженных половых признаков. Ведь это душа, а душа, как вода, не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, ни четко выраженных половых признаков. Ленин, называя интеллигенцию "дерьмом", сделал ей комплимент, так и не оцененный ею. Ведь дерьмо имеет все то, чего так не хватает интеллигенции и воде - и вкус, и цвет, и запах, и многое другое.
 Сегодня актуальная литература уверенно работает со знаками тела, не имеющими отношения к эротике, слишком плотно вписанными в культурный и вербальный контекст без самостоятельного значения. Актуальная литература наконец показала половые органы, но без всякого уважения к ним, без угрозы жизни и без претензий на власть. И тут интеллигенция уже просто не знает, что сказать. А впрочем, ничего вразумительного можно и не говорить. Можно просто отвернуться от актуальной литературы и
решать специфически интеллигентскую проблему - проблему ненормативной лексики.
Сегодня актуальная литература уверенно работает со знаками тела, не имеющими отношения к эротике, слишком плотно вписанными в культурный и вербальный контекст без самостоятельного значения. Актуальная литература наконец показала половые органы, но без всякого уважения к ним, без угрозы жизни и без претензий на власть. И тут интеллигенция уже просто не знает, что сказать. А впрочем, ничего вразумительного можно и не говорить. Можно просто отвернуться от актуальной литературы и
решать специфически интеллигентскую проблему - проблему ненормативной лексики.
 Недавно в одном из "толстых" литературных журналов была напечатана статья о моей прозе. По ходу статьи несколько раз упоминалось слово "онанизм". И каждый раз по-разному. В одном случае оно писалось полностью - онанизм, в другом не полностью, а как "нехорошее" слово - через точки - о.....м, в третьем снова полностью. Жалко онанизм! Все-таки это приличное слово. В словаре ненормативной или табуированной лексики ему делать нечего. Ему место совсем не там.
Недавно в одном из "толстых" литературных журналов была напечатана статья о моей прозе. По ходу статьи несколько раз упоминалось слово "онанизм". И каждый раз по-разному. В одном случае оно писалось полностью - онанизм, в другом не полностью, а как "нехорошее" слово - через точки - о.....м, в третьем снова полностью. Жалко онанизм! Все-таки это приличное слово. В словаре ненормативной или табуированной лексики ему делать нечего. Ему место совсем не там.
 2. Интеллигенция или литература?
2. Интеллигенция или литература?
(сапоги выше Пушкина)
 Разрыв между интеллигенцией и литературой назревал давно. Но до развода в приличных семьях дело стараются не доводить. Интеллигенция как бы не признавалась, что зона актуальной литературы для нее является зоной кошмаров подсознания и зоной априорного оскорбления, а литература как бы по-прежнему доверяла интеллигенции как своему главному и преданному читателю. И только советская власть была тем замечательным миротворцем, которая не позволяла отношениям между интеллигенцией и литературой закончиться открытым бракоразводным процессом.
Разрыв между интеллигенцией и литературой назревал давно. Но до развода в приличных семьях дело стараются не доводить. Интеллигенция как бы не признавалась, что зона актуальной литературы для нее является зоной кошмаров подсознания и зоной априорного оскорбления, а литература как бы по-прежнему доверяла интеллигенции как своему главному и преданному читателю. И только советская власть была тем замечательным миротворцем, которая не позволяла отношениям между интеллигенцией и литературой закончиться открытым бракоразводным процессом.
 Русская интеллигенция оказалась неразборчивым читателем. Список "незамеченных" имен - как скорбный список жертв русской интеллигенции. Где Аполлон Григорьев - автор самого часто цитируемого русского стиха девятнадцатого века "Поговори хоть ты со мной, гитара семиструнная...", блистательный критик, сознательно воспринимавший созданную им критику как альтернативу нравоучительству Белинского и Чернышевского? Где Вагинов
и Добычин - наиболее интересные прозаики двадцатых годов? Все они навсегда остались маргинальными фигурами, существующими на самом краю интеллигентского сознания,
иногда всплывая, но затем снова погружаясь во тьму. Русская интеллигенция оказалась неразборчивым читателем. Список "незамеченных" имен - как скорбный список жертв русской интеллигенции. Где Аполлон Григорьев - автор самого часто цитируемого русского стиха девятнадцатого века "Поговори хоть ты со мной, гитара семиструнная...", блистательный критик, сознательно воспринимавший созданную им критику как альтернативу нравоучительству Белинского и Чернышевского? Где Вагинов
и Добычин - наиболее интересные прозаики двадцатых годов? Все они навсегда остались маргинальными фигурами, существующими на самом краю интеллигентского сознания,
иногда всплывая, но затем снова погружаясь во тьму.
 Где-то там же, на грани, остались Шаламов с Платоновым. Интеллигенции они оказались нужны только лишь в роли политических публицистов, а не писателей. От литературных открытий Шаламова и Платонова интеллигенция отвернулась, как от красивой безделушки. Где-то там же, на грани, остались Шаламов с Платоновым. Интеллигенции они оказались нужны только лишь в роли политических публицистов, а не писателей. От литературных открытий Шаламова и Платонова интеллигенция отвернулась, как от красивой безделушки.
 Интеллигенция часто приписывала советской власти и коммунистам те слова, которые очень хотела произнести сама, но так и не смогла решиться. В частности, рецепты из учебников литературы на двух Достоевских (один Достоевский - прогрессивный писатель, второй Достоевский - реакционный писатель) принадлежат не чекистам - марксистам-коммунистам. Навсегда обидевшись на Достоевского за "Записки из подполья", как на прозу с абсолютно антиинтеллигентской
интенцией, Толстого "Крейцеровой сонаты" и "Фальшивого купона", этику и эстетику интеллигенция навсегда развела по разным углам. Интеллигенция часто приписывала советской власти и коммунистам те слова, которые очень хотела произнести сама, но так и не смогла решиться. В частности, рецепты из учебников литературы на двух Достоевских (один Достоевский - прогрессивный писатель, второй Достоевский - реакционный писатель) принадлежат не чекистам - марксистам-коммунистам. Навсегда обидевшись на Достоевского за "Записки из подполья", как на прозу с абсолютно антиинтеллигентской
интенцией, Толстого "Крейцеровой сонаты" и "Фальшивого купона", этику и эстетику интеллигенция навсегда развела по разным углам.
 Интеллигенция сделала литературу отрыжкой нравственности, причем очень своеобразной нравственности по-русски. Русский литературный процесс всегда шел под присмотром логотипа "Литература есть нравственность". Он шел так в девятнадцатом веке при царе. Он шел так в двадцатом веке при коммунистах. Сейчас он идет так же. Правда, уже без литературы. Литература уже не идет никуда. Интеллигенция сделала литературу отрыжкой нравственности, причем очень своеобразной нравственности по-русски. Русский литературный процесс всегда шел под присмотром логотипа "Литература есть нравственность". Он шел так в девятнадцатом веке при царе. Он шел так в двадцатом веке при коммунистах. Сейчас он идет так же. Правда, уже без литературы. Литература уже не идет никуда.
 Если "литература есть нравственность", то по всем законам логики следующим шагом будет "нравственность есть литература". И все - дальше уже ехать некуда. Мы попадаем в очередной русский культурный тупик, очередной замкнутый круг. Если "литература есть нравственность", то по всем законам логики следующим шагом будет "нравственность есть литература". И все - дальше уже ехать некуда. Мы попадаем в очередной русский культурный тупик, очередной замкнутый круг.
 Время от времени интеллигенция бунтовала против себя же самой, против собственных нравственных ориентиров, пытаясь из этого круга выйти. Один из критиков еще в девятнадцатом веке догадался, что сапоги выше Пушкина. Это не только литературно-общественный парадокс. Как известно, Пушкин был человеком небольшого роста и, если сапоги на высокой платформе, то сапогам совсем нетрудно быть выше Пушкина. Время от времени интеллигенция бунтовала против себя же самой, против собственных нравственных ориентиров, пытаясь из этого круга выйти. Один из критиков еще в девятнадцатом веке догадался, что сапоги выше Пушкина. Это не только литературно-общественный парадокс. Как известно, Пушкин был человеком небольшого роста и, если сапоги на высокой платформе, то сапогам совсем нетрудно быть выше Пушкина.
 Но все-таки речь идет о том, что возможности литературы в плане нравственного переустройства общества крайне ограничены, и хорошие сапоги дают более весомый нравственный эффект, чем самый трижды нравственный писатель. Зайцеву не поверили, интеллигенция Пушкина толком не прочитала, в сапогах разбираться не научилась, в результате чего безнадежно люмпенизировалась, когда стала создавать собственную иерархию ценностей.
Но все-таки речь идет о том, что возможности литературы в плане нравственного переустройства общества крайне ограничены, и хорошие сапоги дают более весомый нравственный эффект, чем самый трижды нравственный писатель. Зайцеву не поверили, интеллигенция Пушкина толком не прочитала, в сапогах разбираться не научилась, в результате чего безнадежно люмпенизировалась, когда стала создавать собственную иерархию ценностей.
 Что было самое лучшее у шестидесятников - это советский романтизм, сквозь пафос которого проступал звериный оскал и милитаризма, и уголовной романтики, и возведенной до энной степени морализма. Но все это окутывалось флером культурного энтузиазма, необходимостью переустройства мира, и все звериные оскалы до поры до времени выглядели милыми шутками разыгравшихся на загородном пикнике школьников младших классов.
Что было самое лучшее у шестидесятников - это советский романтизм, сквозь пафос которого проступал звериный оскал и милитаризма, и уголовной романтики, и возведенной до энной степени морализма. Но все это окутывалось флером культурного энтузиазма, необходимостью переустройства мира, и все звериные оскалы до поры до времени выглядели милыми шутками разыгравшихся на загородном пикнике школьников младших классов.
 Все ценности советской русской интеллигенции - это ценности люмпен-интеллигентов, ценности дорвавшихся до культуры неврастеников, озабоченных прежде всего сексом и алкоголизмом. Секс и алкоголизм это совсем не так плохо. Но уровень подачи того и другого был беспредельно низкий. Все ценности советской русской интеллигенции - это ценности люмпен-интеллигентов, ценности дорвавшихся до культуры неврастеников, озабоченных прежде всего сексом и алкоголизмом. Секс и алкоголизм это совсем не так плохо. Но уровень подачи того и другого был беспредельно низкий.
 Чем плохи люмпены? В конце советской эпохи, когда люмпен-интеллигенция поглотила интеллигенцию, по степени рефлексии (вернее - по полному ее отсутствию) разница между профессором философии Московского университета и мальчиком из подворотни, впервые открывшим Бердяева, исчезла окончательно. И мальчик, и профессор читали Бердяева; и профессор, и мальчик обожали Высоцкого. Чем плохи люмпены? В конце советской эпохи, когда люмпен-интеллигенция поглотила интеллигенцию, по степени рефлексии (вернее - по полному ее отсутствию) разница между профессором философии Московского университета и мальчиком из подворотни, впервые открывшим Бердяева, исчезла окончательно. И мальчик, и профессор читали Бердяева; и профессор, и мальчик обожали Высоцкого.
 В отношениях с литературой интеллигенция всегда стеснялась кича, хотя его и любила. Под подушкой для души - Пикуль и Юлиан Семенов, на подушке - Ходасевич и Набоков. Кич и "высокое" искусство в интеллигентском сознании легко и непринужденно менялись местами. Интеллигенция их путала так же часто, как путают братьев-близнецов.
В отношениях с литературой интеллигенция всегда стеснялась кича, хотя его и любила. Под подушкой для души - Пикуль и Юлиан Семенов, на подушке - Ходасевич и Набоков. Кич и "высокое" искусство в интеллигентском сознании легко и непринужденно менялись местами. Интеллигенция их путала так же часто, как путают братьев-близнецов.
 Наверное, ярче всего люмпенизация литературы отразилась на творчестве и восприятии этого творчества двух выдающихся персонажей шестидесятых - восьмидесятых годов: Высоцкого и Венедикта Ерофеева. Это была литература, не стыдившаяся люмпенства, переставшая стесняться интенции к блатной романтике и алкоголизму.
Наверное, ярче всего люмпенизация литературы отразилась на творчестве и восприятии этого творчества двух выдающихся персонажей шестидесятых - восьмидесятых годов: Высоцкого и Венедикта Ерофеева. Это была литература, не стыдившаяся люмпенства, переставшая стесняться интенции к блатной романтике и алкоголизму.
 Мне кажется, что к мощным люмпен-интеллигентским памятникам эпохи - Храму Христа Спасителя и монументу Победы - надо добавить еще один: памятник неизвестному русскому интеллигенту. Пусть на шее у него будет автомат, в правой руке - крест, в левой - какая-нибудь интересная книжка. Когда-нибудь он, как Дон Гуан, сойдет с пьедестала и ответит на все вопросы: интеллигенция или литература? Люмпен-интеллигенция или литература? Люмпен-литература или интеллигенция? Люмпен-интеллигенция или люмпен-литература?
Мне кажется, что к мощным люмпен-интеллигентским памятникам эпохи - Храму Христа Спасителя и монументу Победы - надо добавить еще один: памятник неизвестному русскому интеллигенту. Пусть на шее у него будет автомат, в правой руке - крест, в левой - какая-нибудь интересная книжка. Когда-нибудь он, как Дон Гуан, сойдет с пьедестала и ответит на все вопросы: интеллигенция или литература? Люмпен-интеллигенция или литература? Люмпен-литература или интеллигенция? Люмпен-интеллигенция или люмпен-литература?
 3. Или интеллигенция, или литература!
3. Или интеллигенция, или литература!
(литературная ситуация как ультиматум идиотизма)
 Все культурные проекты новой российской власти - кунсткамера осуществившихся желаний русской интеллигенции. И наоборот.
Все культурные проекты новой российской власти - кунсткамера осуществившихся желаний русской интеллигенции. И наоборот.
 А где же литература? Интеллигенция и власть забыли литературу, как персонажи "Вишневого сада" забыли старого лакея Фирса, хотя ведь и служил хорошо, и хозяев любил. А где же литература? Интеллигенция и власть забыли литературу, как персонажи "Вишневого сада" забыли старого лакея Фирса, хотя ведь и служил хорошо, и хозяев любил.
 Литература перестала быть априорной ценностью для власти и интеллигенции, актуальная литература - в первую очередь. Но при этом почему-то никого не жалко. Союз между интеллигенцией и литературой - Карфаген, который в конце концов должен был быть разрушен. Сама жизнь его и разрушила.
Литература перестала быть априорной ценностью для власти и интеллигенции, актуальная литература - в первую очередь. Но при этом почему-то никого не жалко. Союз между интеллигенцией и литературой - Карфаген, который в конце концов должен был быть разрушен. Сама жизнь его и разрушила.
 Интеллигенция привыкла, что литературу ей всегда преподносят через журнал. Толстый литературный журнал был тем местом, где интеллигенция привыкла получать литературу. Толстый журнал был для русской интеллигенции теми драгоценными мехами, откуда она привыкла пить марочное вино русской литературы. Толстый журнал был постелью, на которой русская и советская жизнь совокуплялась с самыми лучшими русскими и советскими писателями, чтобы зачать самого лучшего русского ребенка. Толстый журнал был той Сионской горой, на которой русский Бог создавал заповеди русскому читателю. Толстый журнал был для интеллигенции музеем, где хранились самые ценные русские вещи. Толстый журнал был для интеллигенции теплицей, где круглый год росли цветы. Толстый журнал для интеллигенции был космическим кораблем, уносившим в самые далекие галактические просторы. Толстый журнал был для интеллигенции веником, выметавшим грязный сор русской жизни. Толстый журнал был даже в лучшие свои годы идеальным воплощением русского имперского и советского имперского "больших стилей". Толстый журнал был для интеллигенции всем. Толстый журнал был.
Интеллигенция привыкла, что литературу ей всегда преподносят через журнал. Толстый литературный журнал был тем местом, где интеллигенция привыкла получать литературу. Толстый журнал был для русской интеллигенции теми драгоценными мехами, откуда она привыкла пить марочное вино русской литературы. Толстый журнал был постелью, на которой русская и советская жизнь совокуплялась с самыми лучшими русскими и советскими писателями, чтобы зачать самого лучшего русского ребенка. Толстый журнал был той Сионской горой, на которой русский Бог создавал заповеди русскому читателю. Толстый журнал был для интеллигенции музеем, где хранились самые ценные русские вещи. Толстый журнал был для интеллигенции теплицей, где круглый год росли цветы. Толстый журнал для интеллигенции был космическим кораблем, уносившим в самые далекие галактические просторы. Толстый журнал был для интеллигенции веником, выметавшим грязный сор русской жизни. Толстый журнал был даже в лучшие свои годы идеальным воплощением русского имперского и советского имперского "больших стилей". Толстый журнал был для интеллигенции всем. Толстый журнал был.
 Толстый журнал есть. Все толстые журналы до сих пор существуют. То, что о них ничего не слышно - это нормально. Сегодня любая информация о литературной жизни - как информация из заброшенного города, навсегда покинутого жителями. Сердцевиной такого города стали толстые журналы в их сегодняшнем состоянии.
Толстый журнал есть. Все толстые журналы до сих пор существуют. То, что о них ничего не слышно - это нормально. Сегодня любая информация о литературной жизни - как информация из заброшенного города, навсегда покинутого жителями. Сердцевиной такого города стали толстые журналы в их сегодняшнем состоянии.
 Уйдя со страниц толстых журналов, литература так и не дошла до страниц журналов глянцевых. Глянцевые журналы - тоже, по сути дела, интеллигентский культурный проект, где, с
одной стороны, вроде бы господствуют жесткие рыночные отношения, а с другой стороны, - опять же вылезают уши все той же духовности, чьи принципы плохо соединяются и с рыночными отношениями, и вообще с жизнью.
Уйдя со страниц толстых журналов, литература так и не дошла до страниц журналов глянцевых. Глянцевые журналы - тоже, по сути дела, интеллигентский культурный проект, где, с
одной стороны, вроде бы господствуют жесткие рыночные отношения, а с другой стороны, - опять же вылезают уши все той же духовности, чьи принципы плохо соединяются и с рыночными отношениями, и вообще с жизнью.
 В принципе, глянцевому журналу можно быть благодарным за то, что он пытается вытащить литературу на свет Божий. Но в литературе сегодня практически нет светской энергетики. К тому же глянцевый журнал слишком откровенно обслуживает большие деньги и по сути он заинтересован только в рекламе. Все, что между рекламой, большого значения не имеет. Поэтому любая литература, даже актуальная, на страницах глянцевого журнала репрезентируется абсолютно беспомощно. Она зажата между Сциллой рекламы и Харибдой духовности в рыночной упаковке.
В принципе, глянцевому журналу можно быть благодарным за то, что он пытается вытащить литературу на свет Божий. Но в литературе сегодня практически нет светской энергетики. К тому же глянцевый журнал слишком откровенно обслуживает большие деньги и по сути он заинтересован только в рекламе. Все, что между рекламой, большого значения не имеет. Поэтому любая литература, даже актуальная, на страницах глянцевого журнала репрезентируется абсолютно беспомощно. Она зажата между Сциллой рекламы и Харибдой духовности в рыночной упаковке.
 Та же беспомощность и в газетах. Литературная критика и литературная журналистика уже давно перестали быть литературой писателей. Это литература читателей, литература интеллигенции. Интеллигенция боится непредсказуемости; интеллигенции нужны четко выстроенные культурные ряды. Поэтому любимое занятие литературного критика - выстраивать "обоймы" писателей.
Та же беспомощность и в газетах. Литературная критика и литературная журналистика уже давно перестали быть литературой писателей. Это литература читателей, литература интеллигенции. Интеллигенция боится непредсказуемости; интеллигенции нужны четко выстроенные культурные ряды. Поэтому любимое занятие литературного критика - выстраивать "обоймы" писателей.
 Самое главное сегодня для интеллигенции в литературе - это существование Букеровской премии за лучший русский роман года, премии только для оплакивающей потерю русской советской духовности. Актуальная литература, единственно живая на сегодняшний день литература, к этой премии никакого отношения не имеет.
Самое главное сегодня для интеллигенции в литературе - это существование Букеровской премии за лучший русский роман года, премии только для оплакивающей потерю русской советской духовности. Актуальная литература, единственно живая на сегодняшний день литература, к этой премии никакого отношения не имеет.
 Проблемы взаимоотношений интеллигенции и литературы упираются в стенку тотального гуманитарного кризиса, тотального кризиса культуры. Русское культурное сознание было уверено: культура может воспроизводить сама себя, как дубинушка из народной песни - взяла и пошла. Но "дубинушка"-культура всех обманула - она никуда сама не пошла. Интеллигенция же этой дубинушке ничем помочь не может.
Проблемы взаимоотношений интеллигенции и литературы упираются в стенку тотального гуманитарного кризиса, тотального кризиса культуры. Русское культурное сознание было уверено: культура может воспроизводить сама себя, как дубинушка из народной песни - взяла и пошла. Но "дубинушка"-культура всех обманула - она никуда сама не пошла. Интеллигенция же этой дубинушке ничем помочь не может.
 Литература вообще самый плохо защищенный орган тела культуры. Этот "орган" очень болезненно воспринимает изменения атмосферы. Интеллигенция не была готова к существованию литературы в условиях тотального гуманитарного кризиса, хотя стоило принять заранее какие-то превентивные меры... Заморозить, что ли, литературу, чтобы она окончательно не потеряла энергетику и кровь, а потом через какое-то время разморозить и снова выпустить в жизнь. Или отправить русскую литературу куда-нибудь в космос, а потом живой и здоровой снова вернуть на землю.
Литература вообще самый плохо защищенный орган тела культуры. Этот "орган" очень болезненно воспринимает изменения атмосферы. Интеллигенция не была готова к существованию литературы в условиях тотального гуманитарного кризиса, хотя стоило принять заранее какие-то превентивные меры... Заморозить, что ли, литературу, чтобы она окончательно не потеряла энергетику и кровь, а потом через какое-то время разморозить и снова выпустить в жизнь. Или отправить русскую литературу куда-нибудь в космос, а потом живой и здоровой снова вернуть на землю.
 Когда-то Андрей Платонов назвал современный ему литературный процесс "совокупление слепых в крапиве". Постмодернизм, поставив под сомнение, а после и вовсе отменив власть классического наследия в литературе, явился для интеллигенции чужеродным телом. Для интеллигенции последняя русская литературная трагедия - гибель Пушкина на дуэли с Дантесом. Хотя нет, это была предпоследняя трагедия. Последняя - уход Толстого из Ясной Поляны. Дальше уже трагедий не было. Дальше был фарс, надругательство, модернизм, октябрьский переворот, конструктивизм, соцреализм, смерть Сталина, отставка Хрущева, постмодернизм, онанизм - все то, что для интеллигенции уже не было "большой" литературой. Интеллигенция затянула свой роман с дурно понятой традицией, с дурно понятым реализмом. Я убежден, что любой современный интеллигентный читатель предпочтет "Дети подземелья" любому актуальному писателю. Открыто или тайно - но предпочтет.
Когда-то Андрей Платонов назвал современный ему литературный процесс "совокупление слепых в крапиве". Постмодернизм, поставив под сомнение, а после и вовсе отменив власть классического наследия в литературе, явился для интеллигенции чужеродным телом. Для интеллигенции последняя русская литературная трагедия - гибель Пушкина на дуэли с Дантесом. Хотя нет, это была предпоследняя трагедия. Последняя - уход Толстого из Ясной Поляны. Дальше уже трагедий не было. Дальше был фарс, надругательство, модернизм, октябрьский переворот, конструктивизм, соцреализм, смерть Сталина, отставка Хрущева, постмодернизм, онанизм - все то, что для интеллигенции уже не было "большой" литературой. Интеллигенция затянула свой роман с дурно понятой традицией, с дурно понятым реализмом. Я убежден, что любой современный интеллигентный читатель предпочтет "Дети подземелья" любому актуальному писателю. Открыто или тайно - но предпочтет.
 Какая бы ни была дальше в России литература - литература кича, попсовая литература, "народная" литература, элитарная литература (конечно самая интересная литература будет возникать на пересечении этих "литератур") - интеллигенция к формированию осмысленного литературного пространства никакого отношения иметь не будет. А любая реальная литература будет нести четко выраженную антиинтеллигентскую интенцию.
Какая бы ни была дальше в России литература - литература кича, попсовая литература, "народная" литература, элитарная литература (конечно самая интересная литература будет возникать на пересечении этих "литератур") - интеллигенция к формированию осмысленного литературного пространства никакого отношения иметь не будет. А любая реальная литература будет нести четко выраженную антиинтеллигентскую интенцию.
 Интеллигенция свое дело сделала, оставив вопрос о дальнейшем существовании литературы в России открытым. Интеллигенция, как мавр, может уйти.
Интеллигенция свое дело сделала, оставив вопрос о дальнейшем существовании литературы в России открытым. Интеллигенция, как мавр, может уйти.

|