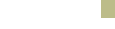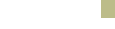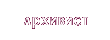| |
 |
 Это один из лучших - если не лучший! - и самых глубокомысленных философских текстов российского настоящего. Это - не систематический трактат, а "материалы", "фрагменты", в невозможности представить которые в законченном и систематическом виде автор сам и сознается. Но автор не говорит, что это "еще" или "пока" невозможно. Это вообще не входит, как я понимаю, в его намерения. Феноменология тела здесь - школа философствования. Нам важно "научиться размышлять о собственном телесном опыте не с позиций нормативной установки, а с позиции нашей возможности быть в живом мире в качестве живого, обладающего телом и "духом" существа. Я бы добавил, - продолжает Подорога, - не просто "обладающего телом", но и телом, которое (мной) обладает. Отсюда важность различий между телом, которое "нам принадлежит" и которое мы называем "своим", и телом, которому мы принадлежим и по отношению к которому мы не можем воспользоваться предикатом присвоения, ибо, принадлежа ему, мы не в силах его присвоить". Это один из лучших - если не лучший! - и самых глубокомысленных философских текстов российского настоящего. Это - не систематический трактат, а "материалы", "фрагменты", в невозможности представить которые в законченном и систематическом виде автор сам и сознается. Но автор не говорит, что это "еще" или "пока" невозможно. Это вообще не входит, как я понимаю, в его намерения. Феноменология тела здесь - школа философствования. Нам важно "научиться размышлять о собственном телесном опыте не с позиций нормативной установки, а с позиции нашей возможности быть в живом мире в качестве живого, обладающего телом и "духом" существа. Я бы добавил, - продолжает Подорога, - не просто "обладающего телом", но и телом, которое (мной) обладает. Отсюда важность различий между телом, которое "нам принадлежит" и которое мы называем "своим", и телом, которому мы принадлежим и по отношению к которому мы не можем воспользоваться предикатом присвоения, ибо, принадлежа ему, мы не в силах его присвоить".
 Уже один этот фрагмент предисловия свидетельствует, с моей точки зрения, о нескольких кардинально важных вещах. Во-первых, это касается общего философского развития в России. Сама постановка задачи философской антропологии у В. Подороги свидетельствует о том, что русская философия наконец-то начинает преодолевать казавшуюся безвыходной по причине засилья официального марксизма дилемму позитивистского натурализма или религиозной философии. Феноменология тела - это "третья" антропология, которую мы и находим у Подороги. Уже один этот фрагмент предисловия свидетельствует, с моей точки зрения, о нескольких кардинально важных вещах. Во-первых, это касается общего философского развития в России. Сама постановка задачи философской антропологии у В. Подороги свидетельствует о том, что русская философия наконец-то начинает преодолевать казавшуюся безвыходной по причине засилья официального марксизма дилемму позитивистского натурализма или религиозной философии. Феноменология тела - это "третья" антропология, которую мы и находим у Подороги.
 Другая кардинально важная вещь обнаруживается после внимательного прочтения процитированного фрагмента, содержащего в себе восхитительную философскую (и лингвистическую) двусмысленность. Посмотрите, как по меньшей мере двузначно здесь представление о теле, которое принадлежит нам и которому мы принадлежим, не будучи в то же время в состоянии его присвоить. Эта двузначность коренится в языке, который есть одновременно и язык телесной перцепции, и язык более отвлеченной эротики. Здесь описывается зафиксированный экзистенциализмом опыт любви, опыт Бубера и Тиллиха, где интерсубъективность изначальна и не надо биться над преодолением солипсистского предикамента. Здесь же, следовательно, из феноменологического опыта рождается опыт ненормативной, чуждой представления о высшем Субъекте философии духа. Другая кардинально важная вещь обнаруживается после внимательного прочтения процитированного фрагмента, содержащего в себе восхитительную философскую (и лингвистическую) двусмысленность. Посмотрите, как по меньшей мере двузначно здесь представление о теле, которое принадлежит нам и которому мы принадлежим, не будучи в то же время в состоянии его присвоить. Эта двузначность коренится в языке, который есть одновременно и язык телесной перцепции, и язык более отвлеченной эротики. Здесь описывается зафиксированный экзистенциализмом опыт любви, опыт Бубера и Тиллиха, где интерсубъективность изначальна и не надо биться над преодолением солипсистского предикамента. Здесь же, следовательно, из феноменологического опыта рождается опыт ненормативной, чуждой представления о высшем Субъекте философии духа.
 А отсюда следует и третье: язык у Подороги не чужд опыту, им описываемому. Это не нейтральный по отношению к предмету инструмент описания, а камертон, по которому настраивается "оркестр" понятий. Он, то есть автор, удивительно волен как в выборе источника анализируемого опыта (это и литература, и живопись, и церковный ритуал, и этнографические описания...), так и в выборе средств описания. Его понятия черпаются не из философского языка, он делает обыденные слова философскими. И в то же самое время демонстрирует удивительную точность языка, не допускающую (или очень редко допускающую) метафоричность, необязательную и расслабляющую "поэзию понятий". А отсюда следует и третье: язык у Подороги не чужд опыту, им описываемому. Это не нейтральный по отношению к предмету инструмент описания, а камертон, по которому настраивается "оркестр" понятий. Он, то есть автор, удивительно волен как в выборе источника анализируемого опыта (это и литература, и живопись, и церковный ритуал, и этнографические описания...), так и в выборе средств описания. Его понятия черпаются не из философского языка, он делает обыденные слова философскими. И в то же самое время демонстрирует удивительную точность языка, не допускающую (или очень редко допускающую) метафоричность, необязательную и расслабляющую "поэзию понятий".
А. Арсентьев
 Книга на вчера: Книга на вчера:
|