 |
||
|
|
||
| / Круг чтения / < Вы здесь |
|
В поисках утраченной поэзии: выпуск 2 Дата публикации: 15 Января 2001 Книги предоставлены московским магазином "ОГИ"
Сам автор произносит всякие гордые слова, молодецки-максималистские: что он, дескать, против людей, которые "тусуются по литсалонам, трясут немытыми волосами, говорят о таинственной и профетической роли русского поэта и некрасиво пьют алкоголь", а самое главное, что этих людей автор почему-то связывает с литературой. "Если они - поэты, то я не имею к литературе ни малейшего отношения", - не без торжественности заявляет он, по-видимому, пребывая в уверенности, что он не таков и что он-то и есть всамделишный поэт. Это очень знаменательный пассаж. Ведь не вдруг этот житель морских глубин говорит "литература и поэзия", а подразумевает каких-то дядек, покрытых перхотью a la Ленский совписовского розлива. Дельфин, тебя обманули! Литература - это другое, поэзия - не дядьки в свитерах! Почему-то принято смешивать литературу с окололитературной публикой. Так вот, для того чтобы путаницы не было, нужно просто, извините за выражение, читать эту самую литературу. Ведь и так ясно, что люди, тусующиеся по литсалонам, сосем не то же, что поэты и поэзия. Равным образом не относится к литературе и собственный образ, нарисованный Дельфином: "Одет в секонд хэнд, проблемы с законом, болен неизлечимой болезнью, влюблен в невозможное. Не интеллигент, не симпатяга, не скромный труженик. Белое отребье. Галлюцинирую наяву. Не то в вечном маниакале, не то постоянно на коксе..." Перечислено все что угодно: одежда, социальное положение, юридический статус, даже медицинские диагнозы "воплощения поэтической традиции" (еще одна автохарактеристика А.Дельфина); но пусть мне кто-нибудь объяснит, чем все это лучше (с точки зрения поэзии) вышеуказанных немытых дядь. И нечего кокетничать: "если они - поэты, то я не имею с литературой ничего общего"; так и есть, с литературой у Дельфина ничего общего, но не потому, что литература = тусовка, а просто потому, что плохие стихи, помноженные на непомерные претензии, совсем не дают еще поэта и поэзии. Так против чего тогда восстает свободолюбивое дитя морей? Получается, что против своего же представления о литературе. Тогда не совсем понятно, к чему этот тон воина-победителя. Зачем предлагать вместо одной позы другую и говорить, что то - не поэзия, а это уж - несомненно поэзия, да еще приплетать "несколько эстетик"? О каких эстетиках можно говорить, если "поэт" по-русски грамотно писать пока еще не выучился? По всей видимости, когда пишется, что книга задевает сразу несколько эстетик, надо понимать, что в стилевом отношении "Веселые нечеловечки" представляют собой бесформенное, уродливое сооружение. Нагромождение разностильных кусков текста, связанных вымученными рифмами и темами, терзающими половосозревающего подростка. В стихотворении, давшем название всей книге, то есть в своего рода программном выступлении, мы видим очень характерную для Дельфина компанию: специалиста по левитации; академика, который "выращивает странные создания в герметически закрытой барокамере"; некоего "подлеца", женившегося на гуманоиде; Любочку Курякину - "с ней запретное нередко разговаривало, она преподаватель в школе Батменов" и т.п. Все заканчивается следующим пассажем: Вас, ребята, в гости приглашаю я, Ориентация автора на описание нового "культурного" пространства отражается даже в названиях стихов: "Новый Фауст", "Новая русская религия", "Новая любовь", "Новая русская песня". По сути же дела то, чем занят Дельфин, не ново. Примерно то же пытались сделать в поэзии имажинисты (ср., напр., деятельность А.Кусикова и В.Шершеневича), а они, между прочим, оказались совершенно бесплодны. Это и понятно: зачем пытаться поэтизировать то, что в принципе не способно быть материалом для искусства, ибо материал, чтобы с ним можно было работать, должен обладать какими-то эстетическими или антиэстетическими качествами, а жизнь, описываемая Дельфином, абсолютно бескачественна: эстетически она, попросту говоря, никакая. А главное - нельзя говорить о новом герое старым языком. Новая эстетическая реальность, о которой пытается толковать Дельфин, должна быть адекватно выражена. В книге же язык не просто традиционный, но даже утомительно традиционный. Как только автор перестает щеголять своими окровавленными Тотошками, рассеченными "астральной шашкою", он тут же срывается в самую скучную банальность вроде "черного плаща в... гробу" или романтические настроения и восклицания - "тебя нигде не ждут". Если бы не было этих срывов, можно было бы и не догадаться, что даже для самого автора выдумывать образы померзее (напр. "солнечная слизь") тяжелый труд; можно было бы подумать, что образы The end of the world характеризуют мышление нового героя. Если бы это было так, во всяком случае, это было бы честнее, чем то натужное оригинальничанье без видимых к нему оснований, которое мы видим в книжке. Oчень скромно изданные книги Виталия Калашникова и Якова Гордина подкупают именно своей непритязательностью. У поэтов нет претензий на переустройство мира и читателя в частности, но зато есть хорошо сделанные стихи, запоминающийся голос.
Практически вся книжка проникнута чувством надрыва, скрытого трагизма существования. Даже в самых обычных вопросах скрывается какая-то невысказанная тревога: Он вздрогнул, когда на плечо опустилась ладонь, Следствием этих вербально никак не обозначенных переживаний становится часто употребляемый Калашниковым повтор. Слова, повторяясь, как бы начинают просвечивать, и обнаруживается то, что не говорится, но чувствуется за словами. Так бывает, когда говоришь с близким человеком. Трагизм отношений между людьми возникает на фоне и как следствие отношений человека с миром, а мир предстает непонятным и затаенно враждебным. Мы были уже возле самого края, Вообще говоря, книжка у Калашникова или, точнее, у его друзей составителей, получилась очень неровная. Наряду с процитированными выше стихами появляются стихи, художественно стоящие очень низко: зачем-то возникают политические темы или сатира на современность. Все это выглядит плоско и пошло. Эксперименты с частушечной поэтикой тоже вряд ли можно назвать удачными хотя бы потому, что частушка никогда не была и не может быть художественным произведением в пределах своего жанра: У меня теперь подружка - Кроме того, нужно сказать, что наиболее удачные тексты принадлежат, судя по данной составителями датировке, к 70-80-м годам. Стихи, написанные в 90-х, либо повторяют достижения ранних лет, либо обращаются к области малоудачных экспериментов.
Опыт удался. Книга без труда встраивается в литературное пространство, сформированное упомянутыми поэтами в начале их деятельности. Речное небо пасмурного льда, Мне кажется, что это стихотворение ярче всего отражает способ существования лирического героя Гордина. Непонятно, то ли он движется, то ли все вокруг него движется, а он стоит на месте, "не шевелясь", "вне суеты". Если не принимать в расчет те тридцать лет, которые прошли с момента написания большинства стихотворений книги, то все это просто прекрасно. Стихи Гордина - другая эпоха, неожиданное прикосновение к которой будит ностальгические чувства. Книга - вздох. Именно это определение, пожалуй, самое точное. Настолько близки все тексты, собранные в ней, настолько все прoникнуто единой интонацией, что иногда это оборачивается даже некоторыми казусами: В сыром безлюдье этих мест - Семантически вполне единообразный текст - а между тем он составлен мной из кусочков двух разных стихотворений. Я позволил себе этот опыт, чтобы продемонстрировать, как достоинство превращается в недостаток. Впрочем, может быть, для этой своеобразной книги "воспоминаний" совпадение текстов - наоборот, свидетельство истинности переживаний?
Новогодняя ночь. Наверное, язык наш в том виде, в каком он используется Бару, слишком конкретен, слишком понятиен, чтобы переступить черту ограниченного количества значений, прорвать систему своих координат и выйти в новые измерения. Интересно, что попытки, подобные совершенной Бару, уже неоднократно предпринимались. О.Черемшанова, например, в своей книге "Склеп" 1925 года опубликовала такое хокку: Черный нож в ладонь! Как видно, в этом тексте поэтесса борется ровно с тем же, с чем и Бару через 75 лет в своей книге, а именно - с присущей языку ограниченностью значений высказывания. Но и в этом случае язык одерживает победу.
Новая книга Сосноры - это прощание с веком, не просто с отрезком времени, но целым комплексом идей и переживаний. Время - центральный персонаж книжки, включающий в себя и весь мир, и отдельную человеческую жизнь. Время - недоброе, всеотнимающее, обволакивающее густым туманом прошлого, в котором ныне существующее становится далеким, призрачным и каким-то ненужным. В этом мире слишком "много" миров, Удивительный язык Сосноры как будто состоит из смысловых глыб, вместе составляющих стройное, прекрасно и умно организованное целое. В этих стихах чувствуется дух средневековой русской архитектуры. Используемые поэтом сокращения служебных частей речи, какие-то дикие, первобытные метафоры - все это создает атмосферу чуда, рождения языка. Кроме того, как всегда у этого поэта, книга - единый текст, а не сборник стихотворений, и достигается это не в последнюю очередь за счет единства языка, стиля, именно по языковым принципам выстраивается композиция.
В черных бронхах чащобы ночной Разрушающийся мир. Видения крови, боли, уродства - основа поэзии Тотева. Даже в шуточных стихах часто говорится о смерти, о несложившейся бессмысленной жизни. Вообще, создается впечатление, что чем отрицательней образ, тем с большей вероятностью мы можем встретить его в книге. Пусть итог безнадежный - ножом Нет, это не философская лирика. Это поэзия мрака и ужаса. Может быть, кому-нибудь нравятся такие стихи, но я с огромным трудом заставил себя прочесть эту книгу. Мне кажется, подлинное творчество уже потому не может быть таким безрадостным, что поэт занят созиданием. Нельзя сказать, что книга Сосноры, например, очень веселая, но, когда читаешь ее, у тебя не возникает удушья, ты видишь рождение нового произведения, язык, слова обретают жизнь. У Тотева слова умирают, оставляя после себя мрак и пустоту. Несколько слов о составлении книги. Видимо, руководствуясь желанием не нарушать целостности авторских циклов, составители поделили всю книгу на несколько отделов. Все бы ничего, но есть стихотворения, которые дублируются в разных отделах (например, небольшой текст "Рифмы" сначала читаем на 103 странице в отделе "Из основной тетради", а затем без каких-либо изменений на 122-й в отделе "Наедине с телевизором. Неоконченная поэма"). По-моему, достаточно одного раза.
|

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||

 Я человек доверчивый, и когда на первой странице предисловия к книге читаю о том, что книга хорошая (а именно это, по-видимому, и хочет сказать Павел Пепперштейн, когда толкует про "фантазм" и про "несколько эстетик", которые "задевает... интригующий шифр" - то бишь стихи Александра Дельфина), то верю, представьте себе, автору предисловия. Ведь зачем ему лгать; хотя здесь нужна скидка на жанр. Жанр предисловия - коварная вещь. Если, скажем, представить себе, как приходит ко мне мой друг и говорит: "Вот, Вася (Петя, Паша и т.п.), я принес тебе Книжку Моих Стихов. Я, видишь ли, поэт. Так не напишешь ли, старик, вступилку?" - я (то есть Петя, Вася, Паша и т.п.), конечно, пишу. И что же можно написать в таком случае, скажите пожалуйста? Уж не то ли, что книжка никуда не годится, уж не о том ли, что автору надо было бы крепко подумать, а потом книгу издавать? Нет, увы, не о том. И пишет Паша (Вася, Петя), что стихи... (см. выше). Но чтобы не говорить "книга хорошая", ибо это неправда, выдумываются следующие пассажи: "Стихи его мне лично доставляют радость и удовольствие. Когда я их читаю, у меня возникает ощущение, что я и в самом деле наблюдаю в бинокль за дельфином, который то ли весело и беспечно играет на поверхности вод, то ли несется к военному кораблю, толкая носом мину". Да ты скажи просто, хорошо это или плохо и почему! Нет, начинается переливание вод. Просто обидно, что для того, чтобы выяснить, что книга плохая, приходится терпеть столько разочарований.
Я человек доверчивый, и когда на первой странице предисловия к книге читаю о том, что книга хорошая (а именно это, по-видимому, и хочет сказать Павел Пепперштейн, когда толкует про "фантазм" и про "несколько эстетик", которые "задевает... интригующий шифр" - то бишь стихи Александра Дельфина), то верю, представьте себе, автору предисловия. Ведь зачем ему лгать; хотя здесь нужна скидка на жанр. Жанр предисловия - коварная вещь. Если, скажем, представить себе, как приходит ко мне мой друг и говорит: "Вот, Вася (Петя, Паша и т.п.), я принес тебе Книжку Моих Стихов. Я, видишь ли, поэт. Так не напишешь ли, старик, вступилку?" - я (то есть Петя, Вася, Паша и т.п.), конечно, пишу. И что же можно написать в таком случае, скажите пожалуйста? Уж не то ли, что книжка никуда не годится, уж не о том ли, что автору надо было бы крепко подумать, а потом книгу издавать? Нет, увы, не о том. И пишет Паша (Вася, Петя), что стихи... (см. выше). Но чтобы не говорить "книга хорошая", ибо это неправда, выдумываются следующие пассажи: "Стихи его мне лично доставляют радость и удовольствие. Когда я их читаю, у меня возникает ощущение, что я и в самом деле наблюдаю в бинокль за дельфином, который то ли весело и беспечно играет на поверхности вод, то ли несется к военному кораблю, толкая носом мину". Да ты скажи просто, хорошо это или плохо и почему! Нет, начинается переливание вод. Просто обидно, что для того, чтобы выяснить, что книга плохая, приходится терпеть столько разочарований.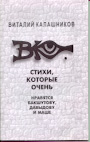 Уже само название книги В.Калашникова задает интонацию тихого дружеского разговора давно знакомых людей. И диалог этот, между прочим, длится уже больше двух десятков лет.
Уже само название книги В.Калашникова задает интонацию тихого дружеского разговора давно знакомых людей. И диалог этот, между прочим, длится уже больше двух десятков лет. Книга Якова Гордина - очень странное явление. Самый ранний текст, содержащийся в ней, относится к 1958 году, самый поздний (из датированных) к 1989-му. Таким образом, временной отрезок охватывается весьма приличный, но за эти тридцать лет для поэта ничего не изменилось, как-то закостенев в формах шестидесятых годов (знакомых нам и по стихам Бродского, Уфлянда, Кушнера, Лосева), он сохранил их до конца восьмидесятых - впрочем, сохранил прекрасно. Эта книга - своего рода живой кусок истории литературы, оказавшийся в наших руках сегодня.
Книга Якова Гордина - очень странное явление. Самый ранний текст, содержащийся в ней, относится к 1958 году, самый поздний (из датированных) к 1989-му. Таким образом, временной отрезок охватывается весьма приличный, но за эти тридцать лет для поэта ничего не изменилось, как-то закостенев в формах шестидесятых годов (знакомых нам и по стихам Бродского, Уфлянда, Кушнера, Лосева), он сохранил их до конца восьмидесятых - впрочем, сохранил прекрасно. Эта книга - своего рода живой кусок истории литературы, оказавшийся в наших руках сегодня.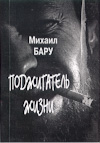 Прямая противоположность книге Гордина - "Поджигатель жизни" Михаила Бару. Пестрое собрание крохотных, но необычайно ярких текстов. Автор пытается текстам длиной всего в три-четыре строки придать интонацию и характер лирического выражения, однако, на мой взгляд, недостаточно удачно. Дело здесь не в способностях поэта, а в языке поэзии. Бару пробует скрестить традиционный язык русской лирической поэзии с явно выпадающими из русской традиции формами. Короткие (один-четыре стиха) тексты всегда (за исключением отдельных экспериментов) воспринимались русским читателем как вполне сложившийся жанр, который можно широко определить как эпиграмму (в это понятие включается и философская эпиграмма, и шуточная, и т.п.). Главной его чертой всегда оставалась афористичность. Михаилу Бару не удалось переломить эту традицию. В предисловии, написанном Дмитрием Быковым, сказано: "Его русские хокку и танка иногда выглядят обычными литературными упражнениями умного острослова..." Так вот, они не "иногда", а как правило выглядят обычными эпиграммами:
Прямая противоположность книге Гордина - "Поджигатель жизни" Михаила Бару. Пестрое собрание крохотных, но необычайно ярких текстов. Автор пытается текстам длиной всего в три-четыре строки придать интонацию и характер лирического выражения, однако, на мой взгляд, недостаточно удачно. Дело здесь не в способностях поэта, а в языке поэзии. Бару пробует скрестить традиционный язык русской лирической поэзии с явно выпадающими из русской традиции формами. Короткие (один-четыре стиха) тексты всегда (за исключением отдельных экспериментов) воспринимались русским читателем как вполне сложившийся жанр, который можно широко определить как эпиграмму (в это понятие включается и философская эпиграмма, и шуточная, и т.п.). Главной его чертой всегда оставалась афористичность. Михаилу Бару не удалось переломить эту традицию. В предисловии, написанном Дмитрием Быковым, сказано: "Его русские хокку и танка иногда выглядят обычными литературными упражнениями умного острослова..." Так вот, они не "иногда", а как правило выглядят обычными эпиграммами: Oдерживать верх в борьбе с языковой затертостью, по сути дела, выдумывать новый язык - стезя крайне неблагодарная. По этому пути идут одиночки. Виктор Соснора - наверное, единственный из современных поэтов, обладающий действительно своим собственным языком, который ни с каким другим не спутаешь.
Oдерживать верх в борьбе с языковой затертостью, по сути дела, выдумывать новый язык - стезя крайне неблагодарная. По этому пути идут одиночки. Виктор Соснора - наверное, единственный из современных поэтов, обладающий действительно своим собственным языком, который ни с каким другим не спутаешь.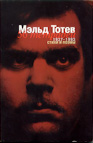 Безрадостна книга Мэльда Тотева. И это не субъективное впечатление, а сознательная позиция автора. Теми, кто писал о его поэзии, замечено, что лирический герой Тотева подобен "побегу, ползущему во мрак подвала". Это действительно так, но рецензенты находили в этом проявление скрытой энергии, стремящейся наружу: "В поэзии Тотева отчетливо звучит подземный гул рвущегося на волю темперамента поэта неукротимых страстей" (В.Тучков). Мне же кажется, что это скорее энергия крота, боящегося земного света и закапывающегося все глубже и глубже, находящего прелесть в темноте и ужасах, порождаемых мраком.
Безрадостна книга Мэльда Тотева. И это не субъективное впечатление, а сознательная позиция автора. Теми, кто писал о его поэзии, замечено, что лирический герой Тотева подобен "побегу, ползущему во мрак подвала". Это действительно так, но рецензенты находили в этом проявление скрытой энергии, стремящейся наружу: "В поэзии Тотева отчетливо звучит подземный гул рвущегося на волю темперамента поэта неукротимых страстей" (В.Тучков). Мне же кажется, что это скорее энергия крота, боящегося земного света и закапывающегося все глубже и глубже, находящего прелесть в темноте и ужасах, порождаемых мраком.