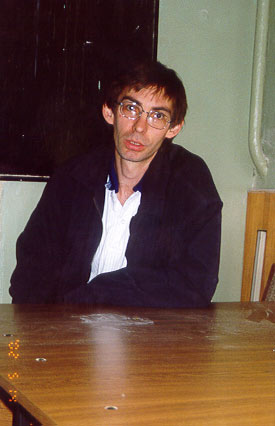| Русский Журнал
/ Круг чтения / www.russ.ru/krug/20020531_kalash.html |
|
"Люди пишут не всегда так, чтобы их понимали мгновенно и лишь единственным образом" Беседовала Елена Калашникова Владимир Бабков Дата публикации: 31 Мая 2002
Русский Журнал: У вас техническое образование. Технарей в художественном переводе намного меньше гуманитариев - В.П.Голышев, Г.М.Кружков, Л.Ю.Мотылев... Владимир Бабков: Да, я закончил физтех. А переводить еще в школе начал. РЖ: Вы учились в обычной или специализированной школе?
Мои родители инженеры, вокруг техническая среда... к тому же в советское время гуманитарная наука не воспринималась всерьез. Я не мог себе представить, что можно идти учиться на писателя или историка. В старших классах я поступил в заочную школу при Физтехе, потом в сам Физтех. Вначале учился на факультете общей и прикладной физики, а закончил проблемы физики и энергетики - туда нашу группу перевели, специальность я не менял. Моя специальность, радиоволны, была мне непонятна, и после учебы я перешел на обычные волны, 3 года работал в Институте океанологии. Потом появилось ощущение бессмысленности - широты кругозора нет, заниматься чем-то одним интересно, но надоедает... а книжки, они все разные, и в каждой больше широты и разнообразия, чем в отдельной научной задаче. Постепенно я бросил науку. Может, и зря. РЖ: Что вы тогда переводили? В.Б.: Что в институте читал. РЖ: Фантастику? В.Б.: В школе как-то купил книжку Кэрролла и в 8-м классе перевел "Охоту на Снарка". А так - фантастику, "Сирены титана" Воннегута... так до сих пор не закончил большую и, по-моему, самую лучшую книгу Вулфа - "О времени и о реке". В общем, выбирал то, что нравилось, из того, что подворачивалось. РЖ: Вы перевели достаточно много, - нашли "своего" автора? В.Б.: Нельзя сказать, что нашел свое alter ego или почувствовал себя чужим alter ego... Но если непонятно, о чем пишет автор, ты не возьмешься за перевод. РЖ: Есть авторы, у которых вы перевели несколько вещей. Например, Хаксли. В.Б.: Да, у Хаксли две книги, а у других максимум роман плюс рассказы... Хаксли мне нравится, я взялся бы и за его третью книжку. Обычно переводишь не того автора, который ближе, а кого больше уважаешь. Переводить иногда интересно и по контрасту. РЖ: Как вы относитесь к своим ранним переводам? В.Б.: Насчет качества своих переводов у меня всегда были сомнения. Со временем они мне не стали нравиться больше... и меньше тоже. Я стараюсь избегать ошибок, которые делал раньше. А что-то прежде выходило лучше, но с этим ничего не поделаешь. РЖ: С чем это связано, с "профессионализацией"? В.Б.: Со временем вырабатываются некоторые приемы. С одной стороны, это хорошо - знаешь, что делать в трудных случаях, а с другой, плохо - раньше одну и ту же задачу решал по-разному. Если хозяйка варит всю жизнь один и тот же суп, она, вероятно, делает это замечательно, но ее трудно сбить и подсунуть другой рецепт. Так и тут, становишься смелее, но ограниченнее... другое дело, что не обязательно подчиняться правилам, даже тем, которые сам установил. РЖ: Есть авторы, жанры или произведения, которые вы бы не стали переводить? В.Б.: Есть отдельные люди, которые раздражают, но чтобы жанр целиком... нет. Талант может облагородить совершенно бессмысленный жанр. РЖ: Например, Виктор Ильич Коган не взялся бы переводить женщин: "Просто мне трудно будет понять их психологию". В.Б.: Да нет, я бы взялся, просто мало хороших книг написано женщинами. Они меньше пишут, за исключением женских романов. Вряд ли в каких-то популярных жанрах - в той же фантастике, которую я в детстве много читал, - появится что-то выдающееся. Ее время расцвета, как и многих других жанров, прошло. Вообще ко всем жанрам я отношусь спокойно. РЖ: Н.С.Мавлевич: "Есть такая мистика, с тобой случается то, о чем переводишь". В вашей переводческой практике были какие-то яркие случаи совпадений? Например, когда переводили "Дом доктора Ди" Акройда? В.Б.: Мистика какая-нибудь? - нет. Совпадения бывают, у меня как раз самые яркие не связаны с переводом. Когда год возишься с книгой, она становится частью жизни и естественно, что события в книге и в жизни как-то переплетаются. Если человек, например, переводит роман о спортсмене, то волей-неволей он больше внимания обращает на события в этой области и неизбежно найдет какие-то соответствия. РЖ: Вы ведете семинар художественного перевода в Литературном институте. Чему можно научить человека, который пришел учиться на "переводчика художественной литературы"? В.Б.: Что можно сделать наверняка, так это дать фактические знания, познакомить с техническими приемами, рассказать, какие бывают словари, расширить кругозор... Преподавание перевода - загадочная вещь, тут больше того, что не поддается определению. В точных науках можно изложить теорию, а тут - общие слова, все расплывчато. Что студенты понимают из этих слов, насколько ты правильно выражаешь то, что думаешь, чему можно научить, чему научиться?.. РЖ: Какие произведения вы разбираете на семинаре? Классику и современную литературу? В.Б.: Все, что нравится и кажется полезным. Недавно я обнаружил, что не всегда понимаю, что для студентов сложно, а что просто. Зная язык на определенном уровне, трудно понять, что другому, который владеет им похуже, или у него в запасе поменьше слов, или он не привык к современной американской манере выражаться... - будет непонятно. РЖ: Как по сложности вы располагаете жанры? В.Б.: Пока тексты и жанры в смысле трудности я располагал хаотически, единой линии не было. Хотя, может, ее и не должно быть... А вообще в прозе надо делать упор на классику XIX - ХХ в., с правильными, развернутыми фразами, а не на боковые ветви. РЖ: Например, на романы Джейн Остен? В.Б.: Да, или Диккенса... Если человек хорошо переводит писателя уровня Диккенса или Генри Джеймса - правильно строит фразу, грамотно расставляет акценты, - его больше нечему учить. У него не будет сложностей с переводом современных книжек... разве что придется выучить новые слова или идиомы. РЖ: Что для студентов сложно? В.Б.: Длинная фраза без внешней броскости, постоянная интонация, которую надо уловить - и писать в одном русле. Я стараюсь научить их слышать чужой голос, чтобы они могли писать по-разному. Конечно, от себя полностью не избавишься - остаются симпатии-антипатии, любимые обороты и словечки. РЖ: А если существуют русские переводы разбираемого вами произведения, вы его читаете на семинарах? В.Б.: Я специально это не отслеживаю, но если перевод есть, как правило, его приношу, чтобы обсудить "нравится - не нравится"... При выборе английского текста неважно, есть ли русский перевод. К семинару я тоже готовлюсь, перевожу текст, студенты могут критиковать мой перевод. Правда, они обычно боятся это делать. РЖ: Кстати, если переводчик работает над текстом, который, например, по-русски уже существуют, по-вашему, можно из него заимствовать особенно удачные обороты, образы, слова?.. В.Б.: Мне почти никогда не приходилось решать эту задачу. Только однажды я переводил довольно много рассказов Конан Дойля о Шерлоке Холмсе. Книга с ними уже два года лежит в "Независимой газете". Тогда это мне как раз мешало: с детства многие из этих рассказов я помню почти наизусть... надеюсь, я не воспроизвел какие-то куски дословно. А нарочно брать и переносить в свой перевод что-то чужое, по-моему, противоестественно. Но если твой вариант фразы намного хуже того, что уже есть по-русски, и ты ничего больше придумать не можешь, лучше, конечно, взять... хотя это и плагиат. РЖ: Американский исследователь С.Росс в статье "Перевод и подобие" пишет о том, что в переводе недостаточно передать намерение автора, поскольку в этом случае пришлось бы признать, что может существовать лишь один правильный перевод. Перевод отражает понимание переводчиком оригинала, а всякое понимание - одно из возможных толкований текста на основе внешних факторов. Речь может идти лишь о подобии перевода оригиналу, которое допускает 4 различных трактовки:
В.Б.: На перевод, как и на всякую вещь, можно смотреть с разных сторон. Когда-то мне казалось, что автор, а потом переводчик описывают некую объективную реальность, при этом какие-то детали теряются, но можно говорить об оправданности перевода... А что касается правильности или неправильности перевода, тут судить сложно, только "нравится - не нравится", - если, конечно, в переводе нет откровенных ошибок. А соответствует ли более или менее приличный перевод оригиналу - читатели об этом никогда не договорятся. По-моему, эту тему и обсуждать-то не стоит. РЖ: На ваш взгляд, есть объективные критерии - за исключением явных ошибок или недопониманий, - по которым можно судить о качестве перевода? В.Б.: Нет, а какие объективные критерии? Если нет ошибок, доказать ничего нельзя, остальное - индивидуальное отношение. РЖ: По-вашему, перевод должен читаться как перевод или как оригинал? В.Б.: Этот вопрос возникает тогда, когда книжка почему-то не нравится: кто виноват - переводчик или автор? А если нравится - просто получаешь удовольствие. Если вы не критик и не ученый, который занимается теорией перевода, на эту тему задумываться не надо. РЖ: Перевод должен читаться как произведение, более или менее современное оригиналу или времени переводчика? В.Б.: Если оригинал написан давно, отчасти его надо стилизовать... но эти условности ради того, чтобы читатель забыл о технических вопросах, чтобы ему было интересно читать. Если старый оригинал целиком перекроить на новый лад, книжка все равно не будет восприниматься органично. Вообще, ставить перед собой конкретную техническую задачу и стараться во что бы то ни стало ее выполнить - неправильно, вся книжка целиком важнее любой частности. Лозинский хотел, чтобы количество слогов в строчках и строчек в оригинале и переводе совпадало, но, по-моему, такие вещи вторичны. РЖ: В Лондоне в 1982 г. вышла книга Т.Сэвори "Искусство перевода", в которой высказывается мысль, что выбор варианта перевода во многом зависит от предполагаемого типа читателя. В.Б.: Перевод делается примерно для такого же читателя, как я сам, я не рассчитываю специально, кому он подойдет. В некоторых глянцевых журналах, например, для спортсменов, тексты оглупляют - считается, что они тупые и не поймут медицинских терминов. Или если текст рассчитан на молодого читателя, обязательно вставят приблатненный жаргон. Это неправильный подход - люди, которые ориентируются на определенный тип читателя, представляют его в более карикатурном виде, чем он есть на самом деле. РЖ: Интерпретационная теория Даницы Селескович основывается на ее наблюдении за процессом устного, в первую очередь синхронного перевода. Перевод - операция над идеями, а не над языковыми знаками, переводчик добирается до смысла, преодолевая языковое выражение и интерпретируя содержание высказывания. С точки зрения Д.Селескович, подобная интерпретация лучше и легче удается синхронисту, у него нет времени анализировать языковую сторону высказывания, и он непосредственно "ухватывает" тот единственный смысл, который возникает в момент интуитивного восприятия высказывания и должен быть передан (перевыражен) в переводе. Письменный переводчик в более трудном положении: перед глазами фиксированный текст, анализируя который можно извлечь (приписать ему) всевозможные смыслы, а не только тот неожиданный, новый, возникающий в конкретном акте коммуникации. Вы тоже думаете, что письменный переводчик может затемнить или опустить главный смысл, занимаясь детальным анализом оригинала? В.Б.: Когда переводишь написанный текст, ты обязан почувствовать и передать и тот "главный" смысл, который в синхронном переводе сразу ловится. Синхронисту как раз легче ошибиться. Зачитайте ему кусок, скажем, из романа Маркеса или Фолкнера - что он там ухватит? Да, живая разговорная речь рассчитана на прямое и быстрое восприятие, люди говорят, чтобы их сразу понимали, а пишут не всегда так, чтобы их понимали мгновенно и лишь единственным образом.
|