| Русский Журнал
/ Круг чтения / Книга на завтра www.russ.ru/krug/kniga/20001003.html |
|
Gestus absconditus Вальтер Беньямин. Франц Кафка / Пер. с нем. Михаила Рудницкого. - М.: Ad Marginem, 2000 Роман Ганжа Дата публикации: 3 Октября 2000
Что мы знаем о жесте? В эпоху классицизма возникла концепция жеста, преобладающая по сей день. Жест рассматривается как выразительное средство, средство овнешнения внутреннего психического содержания, будь то эмоция, реакция или значение. С помощью жеста тело способно сообщать это внутреннее содержание другому. Целая примитивная психология устанавливает серию соответствий между чувствами и воплощением их в жесте. Таким образом, жесты - это знаки. Классическая концепция жеста допускает два понимания его знаковости: жест как индекс и жест как символ, если отталкиваться от типологии Пирса. Индекс - это естественный знак, связанный с представляемым объектом как следствие с причиной. Символ - это произвольный, конвенциональный знак. Первое понимание грешит этноцентризмом, второе глубоко вязнет в категориях сознания и языка. Реакцией на классическую концепцию явилась тенденция определять пластику не как коммуникацию, а как творение или производство. Что касается дат, то заметим, что эта тенденция возникла уже после смерти Кафки. Жест из знака чего-то внутреннего превращается в означающее, поиск означаемого или источника для которого становится главной проблемой. Такие теоретики театра, как Мейерхольд, Арто и Гротовский, вводят здесь мотив иероглифа или идеограммы. Для Мейерхольда любое движение - иероглиф со своим собственным, особенным значением, которое должно немедленно расшифровываться. Для Арто и Гротовского иероглиф - синоним не переводимого на другой язык иконического знака, как бы символа и символизируемого объекта одновременно. В терминологии Пирса иконический знак - это знак, основанный на сходстве с представляемым объектом. Тогда иероглиф - это знак, утративший свой объект, но парадоксальным образом сохранивший сходство с ним. Таким образом, если классическое тело - всего лишь иллюстрация к психологическому, интеллектуальному или моральному смыслу, то теперь тело, которое и есть душа, образует материал, из которого лепится смысл. Особое место занимает концепция топографического жеста Бахтина. Мир - это пространство, иерархически организованное по осям верха и низа, неба и земли. В этом пространстве есть значащие места, и нечто (человек, поступок, слово, жест) обретает художественное значение, лишь находясь в одном из этих мест. Любое пространство - дома, человеческого тела - должно быть вписано в топографию мира, чтобы стать ареной художественно значимого события. Всякое движение в пространстве, перемещение человека или руки при жестикуляции, кроме своего реального, сюжетного и бытового осмысления всегда имеет определенное топографическое, иерархически окрашенное осмысление. Всякий образ обладает засознательной топографической основой, корень которой - не в мертвой и забытой традиции, а в актуальной топографической схеме мира, которая реальна, действенна, но не осознается нами. Сегодня театр стирает все намеки на топографичность сцены, выстраивая бытовую реалистическую декорацию. В свое время это, как и превращение словесных топографических образов в условные речевые штампы, послужило условием возникновения экспрессивно-психологического индивидуального жеста. Если раньше жест воспринимался, "читался" экстенсивно, в отношении к конкретным и зримым топографическим пределам и полюсам мира, между которыми он был простерт, вытянут, то теперь жест читается интенсивно, в отношении только к одной точке - самому говорящему, как более или менее глубокое выражение его индивидуальной души. Сама же эта точка - говорящая жестом душа - не может быть локализована в целом мира, так как нет осевых координат для ее локализации. Если некая завершающая целостность мира и предполагается, то она опосредована сложным мыслительным процессом, рукой на нее не покажешь - а именно это и делал топографический жест. Экспрессивный комнатный жест типичен: возьмите что-нибудь вроде дрожания руки, раскрывающей портсигар и достающей папиросу. Типично именно сочетание бытовой практической осмысленности с индивидуальной внутренней экспрессивностью жеста, причем последняя, как всякая субъективность, раскрывается именно в нарушениях, отклонениях жеста от нормального, практически и технически целесообразного пути, в его торможениях и ошибках. Эта внутренняя интенсивность индивидуальной души ищет новых интенсивных же координат и пределов в этом новом временно и пространственно относительном мире. Что же можно сказать о жесте у Кафки в интерпретации Беньямина? Из первой взятой нами цитаты видно, что жест у Кафки - это не классический жест, поскольку у него нет готового, изначально установленного смысла. Кафка занимается словесным производством различных жестов, а потом как бы исследует их выразительный потенциал, употребляя их в различных контекстах. Так что здесь мы могли бы с полным основанием ввести мотив иероглифа или идеограммы. Но у вышеупомянутых теоретиков театра такой иероглифический жест "центростремителен": он постоянно вертится вокруг точки телесного присутствия, описывая возле нее разнообразные траектории, все точнее и точнее определяя ее для других. Даже будучи предельно абстрактен, такой жест остается сугубо индивидуальным. У Кафки же, как мы видим из второй взятой нами цитаты, такой жест бесконечно центробежен, он направлен за пределы близкого нам комнатного и чердачного мира, он теряет свое бытовое значение. Может быть, он теряет его в пользу значения топографического? Может быть, Кафка возвращает в литературу мир иерархий, верха и низа, ада и рая? Такие, неизбежно теологические сегодня, интерпретации творчества Кафки существуют. Но они наиболее чужды Беньямину. Вот что он пишет о мире Кафки и о положении "живых тварей" в этом мире: "Ни у одной нет... закрепленного за ней места и прочного, не подлежащего подмене очертания; ни одна не знает покоя - только всегдашнюю маету подъема либо падения; ни одной не дано не обменяться местами с врагом либо соседом; нет ни одной, которая не осталась бы незрелой, даже исчерпав свой срок, и ни одной, которая уже в самом начале своего долгого испытания не была бы истощена до крайности. Говорить о порядках и иерархиях здесь невозможно. Мир мифов, который все эти иерархии и порядки предуказывает, несравненно моложе мира Кафки". Таким образом, жест разворачивается на фоне первобытного хаоса. Из третьей цитаты, взятой нами в самом начале, видно, что небо и земля, ад и рай - это границы бутафорского мира, декорации, которые падают от самого незначительного жеста. Этот жест, следовательно, преодолевает не только экспрессивно-бытовое, но и топографическое значение, указуя во тьму внешнюю, область мрака и холода, где в болотной грязи копошатся мириады существ и не находят себе пристанища. На этом, собственно, и обрываются любые истории, не оставляя места надежде на спасение. |
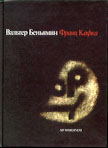 В заметках Беньямина о Кафке звучат несколько мотивов. Задать тему, относительно которой эти мотивы прочитывались бы как вариации, Беньямин не успел. Поэтому мы возьмем лишь один мотив и поставим его в контекст, выбор которого диктуется самим мотивом. Это мотив жеста. Беньямин пишет, что "все творчество Кафки представляет собой некий свод жестов, символический смысл которых во всей их определенности, однако, отнюдь не ясен автору изначально, напротив, автор к установлению такового смысла еще только стремится путем опробования жестов в разных ситуациях и контекстах. Театр для такого опробования - самое подходящее место". Жесты персонажей Кафки "слишком чрезмерны для обычного нашего мира: они пробивают в нем прорехи, сквозь которые видны совсем иные пространства. Чем больше росло мастерство Кафки, тем чаще он вообще переставал приспосабливать эту невероятную жестикуляцию к обыденности житейских ситуаций и ее растолковывать". И далее: "...самым непроницаемым для Кафки всегда оставался жест. Каждый жест для него - это... драма сама по себе. Сцена, на которой эта драма разыгрывается, - всемирный театр, программку для которого раскрывает само небо. С другой стороны, небо - это только его задник; так что если уж изучать этот театр по его собственным законам, то нужно рисованный задник сцены забрать в раму и повесить в картинной галерее... Непостижимейшая загадочность в сочетании с поразительной и безыскусной простотой превращает... жест по сути в животное движение... Но у Кафки всегда так; у человеческого жеста он отнимает унаследованные смысловые подпорки, таким образом обретая в нем предмет для размышлений, которым нет конца". Вот, пожалуй, и все, что Беньямин пишет о жесте у Кафки.
В заметках Беньямина о Кафке звучат несколько мотивов. Задать тему, относительно которой эти мотивы прочитывались бы как вариации, Беньямин не успел. Поэтому мы возьмем лишь один мотив и поставим его в контекст, выбор которого диктуется самим мотивом. Это мотив жеста. Беньямин пишет, что "все творчество Кафки представляет собой некий свод жестов, символический смысл которых во всей их определенности, однако, отнюдь не ясен автору изначально, напротив, автор к установлению такового смысла еще только стремится путем опробования жестов в разных ситуациях и контекстах. Театр для такого опробования - самое подходящее место". Жесты персонажей Кафки "слишком чрезмерны для обычного нашего мира: они пробивают в нем прорехи, сквозь которые видны совсем иные пространства. Чем больше росло мастерство Кафки, тем чаще он вообще переставал приспосабливать эту невероятную жестикуляцию к обыденности житейских ситуаций и ее растолковывать". И далее: "...самым непроницаемым для Кафки всегда оставался жест. Каждый жест для него - это... драма сама по себе. Сцена, на которой эта драма разыгрывается, - всемирный театр, программку для которого раскрывает само небо. С другой стороны, небо - это только его задник; так что если уж изучать этот театр по его собственным законам, то нужно рисованный задник сцены забрать в раму и повесить в картинной галерее... Непостижимейшая загадочность в сочетании с поразительной и безыскусной простотой превращает... жест по сути в животное движение... Но у Кафки всегда так; у человеческого жеста он отнимает унаследованные смысловые подпорки, таким образом обретая в нем предмет для размышлений, которым нет конца". Вот, пожалуй, и все, что Беньямин пишет о жесте у Кафки.