| Русский Журнал
/ Круг чтения / Книга на завтра www.russ.ru/krug/kniga/20010209.html |
|
Постройка на заднем плане Уолтер Абиш. Сколь это по-немецки: Рассказы. Роман / Пер. с англ. и послесл. В.Лапицкого; предисл. М.Брэдбери. - СПб.: Симпозиум, 2000 Александр Скидан Дата публикации: 9 Февраля 2001
Эффект этот в первом приближении я бы сравнил с головокружением от "Фотоувеличения" Антониони, фильма, демонстрирующего загадочную "утечку реальности", ее буквальное, на наших глазах, ускользание. Схлопывание в какую-то метафизическую "черную дыру" (что может быть метафизичней трупа, тем более исчезнувшего?). Особую - зловещую и вместе с тем исполненную тонкой иронии - ауру сообщает фильму то, что "утечка" обнаруживается благодаря технологии, призванной эту реальность бесперебойно поставлять (тема, знакомая читателям Вальтера Беньямина). Тиражировать и делать привычной. Быть поставщиком реальности в ее фотографических образах, смотреть на мир через объектив - разве не в этом заключается профессия преуспевающего героя? И вот в самом средоточии объективности он сталкивается с ее изнанкой: радикальной, пугающей недостоверностью своего знания о мире и самом себе. В последних кадрах, возможно, несколько чересчур аллегоричных, режиссер как будто дает понять, что единственная доступная нам достоверность - это "достоверность" социального ритуала или договора, то есть набора определенных условностей, обладающих чисто прагматической функцией, но никак не отвечающих на вопрос о статусе реальности как таковой. А был ли труп? В текстах Абиша постоянно, с навязчивостью фантазма, фигурируют различного рода отображения реальности: фотографии, репродукции, картины, раскраски, витрины. Иногда они играют роль улики, документа, свидетельства, но чаще представляют собой знак вопроса, фигуру умолчания, неразрешимую загадку, о которую, как о стену, разбиваются любые попытки истолкования описываемых событий. О событиях же сообщается в холодновато-отстраненной, словно сквозь стекло, аналитической манере наблюдателя, обеспокоенного, кажется, только одним: исчерпывающей точностью, доскональностью повествования. Но эта точность, как при процессе укрупнения, фотоувеличения крохотной незаметной детали, оборачивается всего лишь рябью на тонкой поверхности непроницаемой бездны, когда рассказ - как в "Английском парке" - прерывает череда вопросов: "Что он делает в Брумхольдштейне? Он приехал взять интервью у Вильгельма Ауса. Что он делает сейчас? Смотрит телевизор. Что он делал прошлой ночью? Занимался любовью с Ингеборг Платт. Почему он не снял рубашку?" Или в более развернутом виде: "В самом ли деле имел место этот разговор? Могу ли я полагаться на свою память? Люди в раскраске заняты своими повседневными делами и тем самым тоже должны полагаться на свою память. Все что угодно может пробудить воспоминание о каком-то событии. Ингеборг оставила у меня в комнате свой шарф. Забыла его. Это ярко раскрашенный шарф, сделанный в Индии. Он был оставлен, чтобы напоминать мне о событии, имевшем место в этой квартире на третьем этаже". Почему он, в самом деле, не снял рубашку, занимаясь прошлой ночью любовью с Ингеборг Платт? Как это связано, и связано ли вообще, с тем, что город Брумхольдштейн, названный в честь великого немецкого философа Брумхольда, задававшегося вопросом что значит мыслить, построен на месте бывшего концлагеря Дурст? Почему рассказ называется "Английский парк"? В какой-то момент выясняется, что Ингеборг Платт, чей отец был когда-то полковником СС, ушла из дома и не вернулась. Исчезла (отметим, что парк, этот двусмысленный симбиоз "природы" и "культуры", служит "сценой" закадрового убийства и последующего исчезновения и у Антониони). Когда же рассказчик вместе с писателем Вильгельмом Аусом, чьи инициалы, между прочим, совпадают с инициалами самого Абиша (по-немецки - Вальтера), приходят к ней в квартиру с неофициальным "обыском", то обнаруживают... "Копаясь в ящиках ее стола, я наткнулся на фотографию группы напоминающих скелеты людей, выстроившихся, позируя фотографу, в ряд. Вильгельм изучил фотографию, постройка на заднем плане оказалась одним из зданий бывшего концлагеря Дурст. Люди нелепо улыбались. Чтобы устоять, они опирались друг на друга. Под увеличительным стеклом я мог четко разобрать вытатуированные у них на руках номера. Вероятно, эта фотография была сделана через день-другой после того, как лагерь был освобожден американцами. Я не сделал ни малейшей попытки остановить Вильгельма, пока он тщательно и неспешно рвал фотографию на мелкие кусочки. Я пальцем не пошевелил, чтобы помешать ему стереть прошлое". Неуютная, тревожная проза. Порождающая чувство восхищения и вместе с тем оторопи - вплоть до физической дурноты. Эта двойственность, исток которой - в сознательном, демонстративном разрыве между "как" и "что", разрыве, высвобождающем критическое пространство чтения, пронизывает - на разных уровнях - и давший название всему сборнику роман, и рассказы. Но в рассказах, из-за их компактности, она (двойственность) ощущается отчетливей и острее еще и в силу подчеркнуто нейтральной, отстраненной позиции рассказчика, каковой, по идее, должен быть кровно заинтересован в объяснении происходящего. Отсутствие участия с его стороны побуждает нас, читателей, проникнуться подозрением, что центром, излучающим "утечку реальности", является он сам. Точнее, некая зона пустоты в языке, которым он пользуется и который сплетается в повествование - фрагментарное, неполное, в свою очередь, несущее в себе нехватку смысла, своего рода слепое пятно. Родовую отметину языка. Эпиграфом к роману "Сколь это по-немецки" Абиш помещает цитату из Годара: "На кону в действительности то представление, которое о себе имеешь". К сборнику рассказов "В совершенном будущем" стоит другой эпиграф из того же Годара, из его фильма "Мужское\Женское". Тем самым писатель напрямую соотносит свое письмо с определенной интеллектуальной традицией. Это прежде всего критическая традиция, или традиция подозрения. В своих фильмах Годар занимается по существу деконструкцией основополагающих предпосылок, на которых держатся киноиндустрия и потребляющее кинематографические образы общество. Некоторые формальные приемы Абиша напоминают "Безумного Пьеро" и особенно "Две-три вещи, которые я знаю о ней" французского режиссера. Однако социальный или, шире, политический пафос у него приглушен, хотя подспудно присутствует почти в каждом тексте. Особенно это касается романа, где, как и в "Английском парке", речь идет о кошмарном прошлом Германии - вытесненном, забытом, но прорывающемся, под стать "порнографическому воображению", самым неожиданным образом и исподволь разъедающем настоящее. Заключительная сцена романа, в которой писатель и интеллектуал поднимает в состоянии гипноза руку в фашистском приветствии, заставляет вспомнить слова Франсуа Лиотара, философа, безусловно близкого Абишу и его переводчику Виктору Лапицкому: "Наконец, должно быть ясно следующее: нам надлежит не поставлять реальность, но изобретать намеки на то мыслимое, которое не может быть представлено. И решение этой задачи не дает повода ожидать и малейшего примирения между различными "языковыми играми", которые Кант называл способностями, зная, что их разделяет бездна и что лишь трансцендентальная иллюзия (гегелевская) может надеяться на их тотализацию в каком-то реальном единстве. Но он знал и то, что иллюзия эта оплачивается ценой террора. XIX и XX века досыта накормили нас террором. Мы дорого заплатили за ностальгию по целому и единому, по примирению понятийного и чувственного, по прозрачному и коммуникабельному опыту. За всеобщим пожеланием расслабиться и успокоиться мы слышим хриплый голос желания снова начать террор, довершить фантазм, мечту о том, чтобы охватить и стиснуть в своих объятиях реальность. Ответ на это такой: война целому, будем свидетельствовать о непредставимом, активизировать распри, спасать честь имени". Этот ответ, по крайней мере на мой слух, звучит сегодня с явственным русским акцентом. В грамматически совершенном будущем, столь любезном иным поборникам единения под полотнищем национальных особенностей, останется лишь то, что будет это единство обслуживать, каковая обязанность прежде всего будет вменена важнейшим искусствам, в том числе изящной словесности. Уже вменяется. Так ли уж это исключительно по-немецки - не пошевелить и пальцем, чтобы позволить им стереть прошлое? |
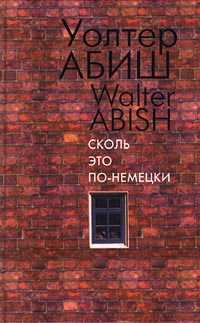 Строго говоря, эта блестящая проза заслуживает самого серьезного философского комментария, если не исследования, что в короткой рецензии вряд ли возможно. В то же время совсем отказаться от философского измерения и сосредоточиться исключительно на эстетических достоинствах было бы попросту некорректно - настолько неразрывно производимый этой прозой эффект связан с проблематикой гносеологического порядка.
Строго говоря, эта блестящая проза заслуживает самого серьезного философского комментария, если не исследования, что в короткой рецензии вряд ли возможно. В то же время совсем отказаться от философского измерения и сосредоточиться исключительно на эстетических достоинствах было бы попросту некорректно - настолько неразрывно производимый этой прозой эффект связан с проблематикой гносеологического порядка.