| Русский Журнал
/ Круг чтения / Книга на завтра www.russ.ru/krug/kniga/20010723.html |
|
Европа Роман Ганжа Дата публикации: 23 Июля 2001
Начнем с рассказа об одном прекрасном утре. Европа в сопровождении подруг гуляет вдоль берега моря возле Тира. На сцене появляется белоснежный бык с огромным подгрудком и крохотными жемчужными рожками, между которыми пролегает единственная черная полоска. Европа отмечает редкую красоту быка, а также то, что он "нежен как ягненок". Первоначальный страх сменяется неотчетливым желанием. Девушка принимается "играть" с животным: она вкладывает ему в рот цветы, нанизывает цветочные венки на рога и наконец взбирается на могучую спину. Бык не спеша направляется к берегу, Европа ни о чем не подозревает. В следующий момент она обнаруживает себя посреди сияющего моря, беспощадное солнце бьет в глаза, соленые брызги обжигают нежную кожу и так далее (кое-кто утверждает, что в кадр непременно должны попасть дельфины, летучие рыбы, чайки и заблудшие серфингисты. Пристальный взгляд различает в самом углу пустую пластиковую бутылку). Одной рукой Европа держится за правый рог быка, другая занята корзиной с цветами. Выйдя на берег, Зевс превращается в орла (благодаря стараниям специалиста по спецэффектам) и "овладевает" Европой (звучит легкий джаз). Та рожает ему трех сыновей. "Европа" означает "широколикая" - синоним полной луны и эпитет лунной богини (Деметры, Астарты и так далее). Похищение Зевсом Европы, свидетельствующее о появлении греков на Крите, могло быть навеяно догреческими изображениями жрицы луны, торжественно восседающей на солнце-быке, который падет от ее руки. Сегодня, по прошествии сотен лет, мы должны были бы дополнить солнечный миф о похищении Европы неожиданной развязкой: посреди бушующего моря девушка достает тесак, спрятанный в корзине с цветами, и хладнокровно перерубает быку хребет. Дальнейшее (умеет ли Европа плавать, далеко ли до берега, температура воды и так далее) остается на совести режиссера. Но также служит "неисчерпаемым источником вдохновения" для многих прогрессивных литераторов. В нашем поле зрения следующие тексты: Каббала (1922) Торнтона Уайлдера, Ластики (1953), Соглядатай (1955) и Ревность (1957) Алена Роб-Грийе, Т нулевое (1967), Замок скрестившихся судеб (1969), Невидимые города (1972) и Таверна скрестившихся судеб (1973) Итало Кальвино. Всем им присуща одна основополагающая черта, назовем ее одержимость формой. Эта черта непосредственным образом связана с лунным мифом о Европе, который является также европейским мифом. Попытаемся разобраться в этом. Форма, минуя болото метафизических спекуляций, - это нечто, содержащее или призванное содержать в себе или за собой нечто другое. Так, говорят о формах для литья. Или говорят, что некто делает нечто формально, то есть не вкладывает в свое действие "души". Сама же "душа", как мы помним из Аристотеля, суть форма тела. Это очень важно: тело с его прекрасными "формами" не является оболочкой для души, но отливается по форме души, как по схеме или чертежу, и все телесные жесты следуют душевной картографии. Известное выражение "форма форм" означает лишь чистый лист бумаги, пустую форму, способную вместить любое формальное построение. Это скорее "пустота", нежели "бог", понимаемый как единство всего позитивного. В этой традиции всякая форма является формой субъекта: последний есть не что иное, как эффект формы. Самый простой пример - военная форма. Другой пример - организация пространства: в Петербурге ты другой человек, нежели в Москве; в метро ты другой, нежели на пешей прогулке, - и так далее. Чтобы субъект длился, форма должна постоянно воспроизводиться. В этом ее связь с памятью: чтобы оставаться человеком, природное существо должно обладать искусственным механизмом памяти, что означает регулярно воспроизводить некие предзаданные фигуры, отливать себя в определенные формы, следовать неким ритуалам. Все содержательное, обнаруживаемое в этих фигурах, формах и ритуалах, - это уступка животному в человеке, а именно инстинкту самосохранения. Подлинная форма человеческого как такового - пустота, как уже было неоднократно, но с неизменной опаской замечено многими прогрессивными мыслителями. Их логика ясна: ведь тогда выходит, что единственным абсолютно человеческим актом является самоубийство. Одержимость формой мы определим как вот такое самоубийственное стремление избавиться от всего содержательного. Но эту одержимость можно понимать и как результат магнетического воздействия, необъяснимого притяжения формы: под этой рубрикой мы поместим страсть к переодеваниям, кладоискательство по старинным картам, ночные прогулки по незнакомому городу и так далее. В конечном счете, это одержимость пустотой, исследование ее возможностей и производимых ею эффектов. Европа, лунная богиня, и Зевс, солнечный бог, образуют пару, также характеризуемую оппозициями женское vs. мужское, дионисийское vs. аполлоническое. Правые термины этих оппозиций обычно связывают с принципом формы, организации, с разумным началом. Это не совсем верно. Скорее, именно женское, дионисийское начало можно описать как формальное (и самодостаточное) в чистом виде. Мужское всего лишь не дает женскому оставаться пустым, само же оно бесформенно и безобразно, недаром Зевс принимает некую чуждую ему форму, чтобы соблазнить Европу. Мужское, вероятно, вообще не существует - оно располагается где-то в области воображаемого, тогда как женское основано на вполне реальной пустоте. Кроме того, мужское несовместимо с аналитическими процедурами, поскольку основано на грубой силе. Захват, вмешательство, эманация - эти атрибуты мужского обнаруживают свою ничтожность, как только подвергаются исследованию с точки зрения формы. Очарование прекрасных бычьих форм толкает девицу на формальный эксперимент с тесаком, в этот момент магия исчезает, и Зевсу - если только он существует помимо своего воплощения - остается лишь покинуть кадр в виде бесплотного облачка. Но это еще и европейский миф. Кое-кто утверждает, что античный пантеон богов подобен кругу с незанятым центром, то есть это чисто формальное построение, основанное на пустоте. Христианство удачно дополнило эту конструкцию и придало ей "основательность", поместив в центре своего Бога, отвечающего за единство всего сущего, и тем самым заполнив пустоту. Однако эту историю можно рассказать и иначе: Европа воплощает принцип одержимости формой, то есть "европейская" точка зрения - это точка зрения субъекта, который обнаруживает и воспроизводит себя в различных пространственных и временных конструкциях. Тогда как христианство - это всего лишь объективация, то есть то, в чем субъект находит источник своего бытия, забыв о том, что в его основании лежит пустота. Это как если бы кувшин думал, что своей прекрасной формой обязан вину, которое в него налили, ведь он не может осознать своей формы иначе. Дехристианизация Европы и смерть Бога - это рост самосознания кувшина, в результате которого кувшин способен осознать свою форму, исследуя находящуюся в нем пустоту. Тексты, которые нам предстоит рассмотреть, являются именно такого рода исследованиями. 1
2 В романе Алена Роб-Грийе Ластики одержимость формой не только служит характеристикой поведения героев, но и является принципом самого повествования. Мы узнаем о существовании некой тайной организации (как и в Каббале), проводящей серию политических убийств. Очередной жертвой должен стать Дюпон - обычный профессор, но обладающий "тайной властью". Но убийце удается лишь ранить Дюпона, и тот скрывается в клинике знакомого врача, который докладывает полиции о смерти Дюпона и о передаче тела федералам. Вечером того же дня на место прибывает агент спецслужб Уоллес, который и расследует это дело в течение последующих суток. Повествование следует форме замкнутого круга, или мертвой петли. Уоллес в своем путешествии по городу странным для себя образом описывает замкнутые фигуры: то оказывается в том месте, откуда пришел, то вдруг начинает движение в обратном направлении, то предпринимает немотивированные обходы и так далее. Повествование также петляет: то возвращается к описанию какого-то события, но с иной точки зрения или в ином ракурсе, то инициирует "вовсе не случайные" аналогии, играет на сходстве и так далее. В результате таких "замыканий на себя" время замирает в неподвижности, образуя зеркальный лабиринт. В результате "событие", разрывающее замкнутый круг, все же случается - Уоллес по ошибке убивает Дюпона. В этот момент наручные часы Уоллеса, остановившиеся ровно 24 часа назад, в момент неудавшегося убийства, снова пошли. Время описало мертвую петлю. То же самое, но в еще более гипертрофированном виде, мы встречаем в романе Соглядатай. Матиас, продавец часов, приезжает с товаром на остров своего детства. В первой части романа описываются его похождения вплоть до 11.30, во второй части - начиная с 12.30. Выясняется, что примерно в это же время погибла девочка, упав со скалистого утеса. Островитяне придерживаются версии несчастного случая, хотя, как выясняется, многие из них были бы не прочь поквитаться с девчонкой. Однако все улики, о которых мы по большей части узнаем из внутренних монологов героя, указывают на его вину. Но все эти неопровержимые свидетельства, похоже, ведомы лишь ему одному; герой спокойно покидает остров. Вот, собственно, и вся история. Повествование же строится не как рассказ об этой незатейливой истории, но следуя определенной, до некоторой степени навязчивой форме. Это форма восьмерки (8). В оригинале издания романа между первой и второй частями, где как раз должно было бы располагаться описание жестокого убийства, пропущена страница за номером 88. Восьмеркой скручены веревочки, страсть к собиранию которых Матиас обнаружил еще в детстве. Восьмерки преследуют Матиаса: на стене мола, в рисунке сучков на деревянной двери, на афише фильма "Путешествие господина Х. по двойному кругу". Маршрут героя по острову также представляет собой восьмерку, центр которой совпадает с "местом преступления". Время повествования тоже закручено в восьмерку, в центре которой оказался целый час "лишнего времени". Задача героя - убить это лишнее время. Он постоянно возвращается к событиям "вокруг" этой тревожной пустоты, убеждая (кого?) в том, что она была заполнена вполне невинными событиями, вроде ремонта велосипеда или ожидания старого знакомого у дверей его дома. Но пустоту невозможно заполнить - ее можно лишь обойти, описать вокруг нее круг. Об этом косвенно свидетельствует и новая афиша: "Матиас спрашивает, куда делась вчерашняя цветастая афиша; та афиша, отвечает владелец гаража, не соответствовала фильму, бобины с которым были тогда же получены; распространитель ошибся, посылая их. Так что объявление о программе на следующее воскресенье придется теперь просто написать чернилами. Матиас уходит, когда человек уже принимается за свою работу, твердой рукой выводя большую букву О". В романе Ревность (или Жалюзи?) нет псевдодетективной интриги. Здесь вообще ничего не происходит. Есть женщина А***, есть мужчина Фрэнк, у которого есть жена и ребенок. Фрэнк проводит время в обществе А***, оставляя свою семью дома. О существовании третьего персонажа мы узнаем по косвенным свидетельствам: например, А*** неизменно разливает коньяк с газированной водой по трем стаканам. Мы наконец догадываемся, что рассказчик, который ни разу не называет себя, но постоянно присутствует на сцене - это муж А***. Такое чувство, как ревность, тоже не называется. Есть лишь читательские догадки, основанные на том, что А*** и Фрэнк отправляются в город на автомобиле и надолго задерживаются, ссылаясь на поломку в дороге. Впрочем, навязчивые повторы, излишне подробное рассмотрение "фактов", слишком тонкая, чтобы быть реальной, игра различий в "деталях" заставляют думать, что все это происходит в воображении отсутствующего, но вместе с тем реального персонажа. Вывод таков: все то, что мы привыкли называть "реальным", на деле относится к регистру воображаемого - все эти позитивные факты, яркие визуализации и вообще все интенсивное. Подлинной реальностью обладает лишь форма, в идеале - пустота, чистая длительность. Читателя романов Роб-Грийе с первой же секунды захлестывает массовое вторжение неких "картин", на первый взгляд создающих иллюзию реальности. "Эффект реальности", создаваемый подробными детализированными описаниями в классических текстах - это аполлонический эффект, грубое вторжение "позитивного", демонстрация силы. Когда "классик" вдается в описания природы или живописует убранство внутренних покоев, не говоря уже о гастрономических подробностях, он на самом деле утверждает незыблемую мощь догматов Церкви, вечную и неизменную гармонию общественных установлений, нерушимый авторитет армии и тайной полиции. Роб-Грийе подрывает претензии аполлонических визуализаций тем, что вносит в стройный порядок описаний едва уловимую "черту", краем уха слышимый диссонанс - и делает это методом вариаций, или серии. Навязчивое повторение того же самого каждый раз где-то на периферии поля зрения обнаруживает незаметный "штрих" различия. Если бы различие было слишком явным, оно бы поддерживало иллюзию реальности. Вот, например, классическая музыкальная тема с вариациями: очевидные отличия в интонациях создают иллюзию некоего "душевного" движения с завязкой, кульминацией и развязкой. Другое дело атональная серия: статистически заданные вариации создают лишь ощущение тягостной пустоты. Романы Роб-Грийе как раз и строятся вокруг пустоты. Все тщательно прорисованные "картины" повисают в нереальном, играя роль фантазмов воображения. Разнообразные пустоты и фантазмы наводняют то, что осталось от "рассказа". Смысл в том, что дереализация "позитивной реальности фактов" позволяет обнажить реальность самого субъекта, а именно то, каким образом он располагается относительно основывающей его пустоты. Некоторые исследователи творчества Роб-Грийе видят задачу читателя его романов в том, чтобы "домысливать" недосказанное автором, заполнять лакуны, обращаясь с текстом, как с настольной игрой, - "переставлять фишки", "изобретать правила", "дать волю фантазии". Но ведь это все равно что присутствовать при "исполнении" 4:33 и слышать при этом какой-нибудь вальс Чайковского - вместо того, чтобы воспользоваться уникальным шансом осознать собственную реальность, испытать незнакомое очарование формы как таковой и даже в какой-то степени почувствовать себя европейцем. 3
Роман Невидимые города состоит из рассказов Марко Поло о различных городах великой империи, которые слушает ее правитель Кублай-хан. "В жизни императоров бывает миг, когда <...> однажды вечером мы вдруг испытываем ощущение пустоты <...> и головокружение <...> приходит миг отчаянья, когда становится вдруг ясно, что империя, казавшаяся нам собранием всех чудес, - сплошная катастрофа <...> И только в донесениях Марко Поло удавалось Хану различать сквозь стены и башни, обреченные на разрушение, филигрань столь тонкого рисунка, что его не смог бы укусить термит". Поначалу Марко Поло изъясняется пантомимой и предъявляет Хану разные предметы-эмблемы, точный смысл которых неясен, но связь которых с тем или иным городом обладает строгостью закона. Ценность этих сообщений - "в окружавшем их пространстве, в не заполненной словами пустоте. Описания городов, где побывал купец, позволяли мысленно гулять по ним, сбиваться с пути, дышать, остановившись, свежим воздухом или бегом пускаться прочь". Хан полагает, что каждый город можно было бы рассказать с помощью шахматной партии, но "сведя свои завоевания к абстракции, чтоб доискаться до их сути, Хан обнаружил, что последнее, решающее, скрывавшееся за обманчивыми оболочками многообразных ценностей империи, - просто кусочек струганного дерева - ничто..." (На что Марко Поло вполне резонно возражает: этот кусочек дерева обладает своими характерными особенностями и своей историей, которая является в конечном счете историей Империи.) Научившись языку, Марко Поло открывает, что слова не могут выразить всего, что он хочет сказать, и он продолжает пользоваться языком жестов, каждый из которых соответствует определенному душевному движению. Позже Марко Поло разъясняет метод своих путешествий: приезжая в каждый новый город, путешественник встречается с частицей собственного прошлого в стихии абсолютно ему чуждого. Города, подобно снам, построены из страхов и желаний, и каждый город содержит ответ на твой вопрос. Хан понимает, что города, о которых рассказывает ему венецианец, не существуют. Или иначе: рассказывая о разных городах, Марко Поло рассказывает что-то о своем родном городе. "Все, что я вижу и делаю, обретает смысл в пространстве мысли <...> Говорю я то, что говорю, а тот, кто слушает меня, улавливает только те слова, которых ждет. <...> Ведь рассказом управляет ухо, а не голос". У Хана есть каталог возможных форм городов, он "бесконечен, и пока для каждой не найдется город, будут появляться новые города. Там, где формы исчерпывают свои возможные вариации и распадаются, города перестают быть городами". Собственно, рассказы Марко Поло о "городах" как раз и составляют вот этот каталог всех возможных форм. "Города" - это инструменты, формы, органы человеческого. Вспомним, о чем мы говорили в начале: человеческое требует своего регулярного воспроизведения в природных существах, которыми мы являемся. Для этого мы должны вписать себя в определенную форму. Или - нам следует отправиться в путешествие по "городам". В романе Кальвино мы узнаем о разных ипостасях человеческого, но все они нуждаются в тех или иных формах для своего функционирования. Так, память может требовать для своего проявления неких "памятных предметов", которые одновременно и часть, и символ прошлого (с. 145), или же своеобразного "театра памяти", пространства, организованного по правилам мнемотехники (с. 149). Или вот желание - чтобы быть человеческим, оно вообще нуждается в той или иной форме. И так далее. Хан придумал такую модель города, "из которой можно будет вывести все мыслимые города. Она содержит все, что есть в нормальном городе". Версия "формы всех городов" Марко Поло существенно иная: "Это город сплошь из исключений, запретов, несуразностей, противоречий, всяческого вздора", предел невероятия. Таким образом, форма любого "города" - пустота, которая так же невероятна, как и то, что мы существуем. Итак, Европа. Мы застаем ее - снова и снова, в который раз - в этой несколько неестественной позе. Похоже, что она сидит на чем-то покатом, но в то же время достаточно широком, чтобы удержаться от соскальзывания по наклонной плоскости. Ноги поджаты и слегка расставлены, так что правое колено расположено чуть ниже левого. Торс развернут на три четверти вправо относительно плоскости обзора. Правая рука расположена целиком в этой плоскости, и вместе с тем вытянута параллельно линии горизонта. Впрочем, то же можно сказать и о левой ноге. Кисть правой руки сжимает воображаемый поручень. Левая рука слегка приподнята относительно линии горизонта и к тому же согнута в локте под углом приблизительно в 45 градусов, так что невидимая кисть левой руки находится в непосредственной близости от левого уха, тоже невидимого. Однако можно понять, что в левой руке находится некий предмет. Вероятно, это не гребень для волос, для этого он слишком велик. Можно предположить, что это металлическое орудие с довольно широким лезвием, которое современники девушки используют для вырубки леса и разделки туш крупного рогатого скота. Да, голова девушки! Она повернута в три четверти и немного наклонена вперед. Глаза наполовину закрыты, их выражение трудно определить. Губы плотно сжаты, их уголки слегка приподняты. Возможно, девушка улыбается. Но это может быть также гримаса боли или признак внутреннего напряжения. Завороженные, мы снова и снова вглядываемся в ее лицо, пытаясь разгадать тайну знаменитой улыбки Европы. |
 В романе Торнтона Уайлдера Каббала повествование ведется от имени молодого американца, прибывшего в Рим на учебу. Европа представляется ему краем легендарного прошлого, гигантским полотном старого мастера, которое надо лишь отреставрировать. Рассказчик явно одержим формой самого города Рима, карта которого висела над его столом восемь последних лет. Судьба сводит его со странным сообществом, которое в народе называют "Каббалой". Это аристократы высшей пробы, очень богатые и влиятельные люди и к тому же "жуткие интеллектуальные снобы". По другим свидетельствам, не все они богаты, да и интеллектуалом тоже можно назвать далеко не каждого из них. Однако у них имеется "некий великий дар", который их объединяет. "Они просто сидят у себя в Тиволи, разговаривая о нас, и иногда, сами того не ведая, что-то такое непонятным образом совершают". По ходу дела мы замечаем, что рассказчику безошибочно удается распознать "каббалиста", хотя общего у них действительно мало - одна "страдает помрачением разума", другая похожа на ведьму с неистовым взглядом и так далее. Параллельно он становится свидетелем событий, которые можно назвать формальными характеристиками европейского: молодой поэт, умирающий от чахотки; разговоры о литературе до раннего утра за столом, уставленным деликатесами и отборными винами; самоубийство юного, но уже погрязшего в распутстве (пять или шесть любовных интриг одновременно) князя в садах роскошной старой итальянской виллы и так далее. Знакомства с "каббалистами" продолжаются: вот Кардинал, которому свойственно в высшей степени формальное и холодное отношение к собственным подвигам веры; в разговоре с ним рассказчик проясняет для себя свою дистанцию по отношению к европейскому: если здесь за напускным благочестием и прочей аристократической атрибутикой легко могут скрываться самые ужасные пороки, то в Америке греховная натура старательно преодолевается посредством воспитания в себе внутренней убежденности и искренней веры. Если здесь отношение к любым идеям, да и к собственной жизни предельно поверхностно, то на родине рассказчика ко всему относятся серьезно. Здесь "мужчины и женщины только делают вид, будто погружены в какие-то занятия, между тем как на самом деле они живут полной жизнью в мире условленных свиданий, тайных знаков и уверток". Здесь безразличие, обнаруживаемое за горячей и чувственной жестикуляцией, там - сила, искренность и холодная ненависть. Однако рассказчик все же поддается очарованию и соблазну формального: он целыми днями зачарованно созерцает жизнь этих поверхностных людей, судя по всему, он их "просто любит, и все". Вот княгиня д'Эсполи: блеск, изящество, обаяние, манеры, остроумие, чистое совершенство внешних проявлений, не допускающее даже мысли об актерской игре, дар тончайшего подражания и так далее. Но эта постройка весьма неустойчива: очередная безответная любовь обнаруживает в самом сердце ее существа смертельную пустоту, что, впрочем, толкает ее на еще более бурную внешнюю активность. Наконец, мисс Грие посвящает рассказчика в тайну Каббалы: "С принятием христианства древние боги не умерли. <...> Начав лишаться приверженцев, они стали терять и некоторые атрибуты своей божественности. Они обнаружили даже, что могут умереть по собственному желанию". Так все они и делают. "Все боги и герои по природе своей - враги христианства, принесшего свои упования и свое раскаяние, веры, перед лицом которой каждый человек - неудачник. Только сломленный внидет в Царствие Небесное. Под конец, изнуренные служением самим себе, они сдаются. И уходят. Отрекаясь от себя". Мисс Грие предполагает, что рассказчик - это очередной Меркурий. Рассказчик вполне удостоверяется в этом на обратном пути в Америку, когда ему удается вызвать дух Вергилия. Под конец несколько комического диалога выясняется, что Нью-Йорк - это современный Рим, величайший из всех городов. Итог: в романе Уайлдера одержимость формой как характеристика европейского получает свое аллегорическое истолкование: рассказчик преображается в форме античного божества, своего рода демона, отныне управляющего жизнью героя.
В романе Торнтона Уайлдера Каббала повествование ведется от имени молодого американца, прибывшего в Рим на учебу. Европа представляется ему краем легендарного прошлого, гигантским полотном старого мастера, которое надо лишь отреставрировать. Рассказчик явно одержим формой самого города Рима, карта которого висела над его столом восемь последних лет. Судьба сводит его со странным сообществом, которое в народе называют "Каббалой". Это аристократы высшей пробы, очень богатые и влиятельные люди и к тому же "жуткие интеллектуальные снобы". По другим свидетельствам, не все они богаты, да и интеллектуалом тоже можно назвать далеко не каждого из них. Однако у них имеется "некий великий дар", который их объединяет. "Они просто сидят у себя в Тиволи, разговаривая о нас, и иногда, сами того не ведая, что-то такое непонятным образом совершают". По ходу дела мы замечаем, что рассказчику безошибочно удается распознать "каббалиста", хотя общего у них действительно мало - одна "страдает помрачением разума", другая похожа на ведьму с неистовым взглядом и так далее. Параллельно он становится свидетелем событий, которые можно назвать формальными характеристиками европейского: молодой поэт, умирающий от чахотки; разговоры о литературе до раннего утра за столом, уставленным деликатесами и отборными винами; самоубийство юного, но уже погрязшего в распутстве (пять или шесть любовных интриг одновременно) князя в садах роскошной старой итальянской виллы и так далее. Знакомства с "каббалистами" продолжаются: вот Кардинал, которому свойственно в высшей степени формальное и холодное отношение к собственным подвигам веры; в разговоре с ним рассказчик проясняет для себя свою дистанцию по отношению к европейскому: если здесь за напускным благочестием и прочей аристократической атрибутикой легко могут скрываться самые ужасные пороки, то в Америке греховная натура старательно преодолевается посредством воспитания в себе внутренней убежденности и искренней веры. Если здесь отношение к любым идеям, да и к собственной жизни предельно поверхностно, то на родине рассказчика ко всему относятся серьезно. Здесь "мужчины и женщины только делают вид, будто погружены в какие-то занятия, между тем как на самом деле они живут полной жизнью в мире условленных свиданий, тайных знаков и уверток". Здесь безразличие, обнаруживаемое за горячей и чувственной жестикуляцией, там - сила, искренность и холодная ненависть. Однако рассказчик все же поддается очарованию и соблазну формального: он целыми днями зачарованно созерцает жизнь этих поверхностных людей, судя по всему, он их "просто любит, и все". Вот княгиня д'Эсполи: блеск, изящество, обаяние, манеры, остроумие, чистое совершенство внешних проявлений, не допускающее даже мысли об актерской игре, дар тончайшего подражания и так далее. Но эта постройка весьма неустойчива: очередная безответная любовь обнаруживает в самом сердце ее существа смертельную пустоту, что, впрочем, толкает ее на еще более бурную внешнюю активность. Наконец, мисс Грие посвящает рассказчика в тайну Каббалы: "С принятием христианства древние боги не умерли. <...> Начав лишаться приверженцев, они стали терять и некоторые атрибуты своей божественности. Они обнаружили даже, что могут умереть по собственному желанию". Так все они и делают. "Все боги и герои по природе своей - враги христианства, принесшего свои упования и свое раскаяние, веры, перед лицом которой каждый человек - неудачник. Только сломленный внидет в Царствие Небесное. Под конец, изнуренные служением самим себе, они сдаются. И уходят. Отрекаясь от себя". Мисс Грие предполагает, что рассказчик - это очередной Меркурий. Рассказчик вполне удостоверяется в этом на обратном пути в Америку, когда ему удается вызвать дух Вергилия. Под конец несколько комического диалога выясняется, что Нью-Йорк - это современный Рим, величайший из всех городов. Итог: в романе Уайлдера одержимость формой как характеристика европейского получает свое аллегорическое истолкование: рассказчик преображается в форме античного божества, своего рода демона, отныне управляющего жизнью героя.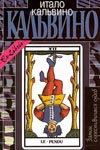 Романы Итало Кальвино Замок скрестившихся судеб и Таверна скрестившихся судеб - это результат эксперимента, толчком к которому послужила "мысль использовать карты таро в качестве комбинаторного повествовательного механизма". Руководствуясь той идеей, что значение каждой карты зависит от того, какое место она занимает в последовательности карт, писатель попытался взглянуть на старинные карты глазами человека, не знающего, что они представляют сами по себе, и реконструировать некую воображаемую иконологию. Автор поставил себе задачу разложить колоду таро таким образом, чтобы получившиеся в результате столбцы и строки оказались пиктографическим изображением какой-нибудь истории и чтобы эти истории отличались друг от друга настолько, дабы в совокупности исчерпать повествовательные возможности данной колоды карт. Эксперимент начался в 1968 году и длился несколько лет. Затея с колодой таро XV века рода Висконти удалась довольно быстро: колода была разложена в форме "кроссворда", где к тому же каждый эпизод (в духе "Неистового Орландо" Лудовико Ариосто) мог быть прочитан в обоих направлениях. Зато колода популярных марсельских таро, выпущенная в 1761 году, никак не раскладывалась: "По целым дням я разбирал и снова складывал свою головоломку, придумывал все новые правила игры, создал сотни схем - квадратных, ромбовидных, звездообразных, - но всегда какие-то из главных карт оставались вне их, а необязательные, наоборот, входили, и эти схемы, становились столь замысловатыми (порой даже трехмерными - кубическими, многогранными), что и сам я стал в них путаться. <...> Не раз за эти годы, с более или менее продолжительными интервалами, загонял я себя в этот лабиринт, который сразу поглощал меня целиком и полностью. Быть может, я сходил с ума? <...> Я снова погрузился с головой в эти зыбучие пески, замкнулся в маниакальной одержимости своей идеей. Случалось, я, проснувшись ночью, мчался зафиксировать какую-нибудь решающую поправку, которая влекла за собой нескончаемую цепь перестановок. А иногда вечером ложился с чувством облегчения от того, что наконец нашел идеальное решение, а пробудившись утром, рвал его на части". Таверна вышла в 1973 году. Опыт Кальвино очень показателен: в нем одержимость формой вступает в конфликт со стремлением к осмыслению, которое черпает свои фантазмы в игре воображения. Первый роман, Замок, был создан словно по божественному наитию, и расклад карт здесь безупречен с точки зрения формы. В Таверне от былой строгости не осталось и следа: здесь управляет хаотичная логика самого рассказа с его многочисленными воображаемыми аллюзиями. Как если бы холодное безразличие швейцарского часового завода сменилось шумным кавардаком восточного базара.
Романы Итало Кальвино Замок скрестившихся судеб и Таверна скрестившихся судеб - это результат эксперимента, толчком к которому послужила "мысль использовать карты таро в качестве комбинаторного повествовательного механизма". Руководствуясь той идеей, что значение каждой карты зависит от того, какое место она занимает в последовательности карт, писатель попытался взглянуть на старинные карты глазами человека, не знающего, что они представляют сами по себе, и реконструировать некую воображаемую иконологию. Автор поставил себе задачу разложить колоду таро таким образом, чтобы получившиеся в результате столбцы и строки оказались пиктографическим изображением какой-нибудь истории и чтобы эти истории отличались друг от друга настолько, дабы в совокупности исчерпать повествовательные возможности данной колоды карт. Эксперимент начался в 1968 году и длился несколько лет. Затея с колодой таро XV века рода Висконти удалась довольно быстро: колода была разложена в форме "кроссворда", где к тому же каждый эпизод (в духе "Неистового Орландо" Лудовико Ариосто) мог быть прочитан в обоих направлениях. Зато колода популярных марсельских таро, выпущенная в 1761 году, никак не раскладывалась: "По целым дням я разбирал и снова складывал свою головоломку, придумывал все новые правила игры, создал сотни схем - квадратных, ромбовидных, звездообразных, - но всегда какие-то из главных карт оставались вне их, а необязательные, наоборот, входили, и эти схемы, становились столь замысловатыми (порой даже трехмерными - кубическими, многогранными), что и сам я стал в них путаться. <...> Не раз за эти годы, с более или менее продолжительными интервалами, загонял я себя в этот лабиринт, который сразу поглощал меня целиком и полностью. Быть может, я сходил с ума? <...> Я снова погрузился с головой в эти зыбучие пески, замкнулся в маниакальной одержимости своей идеей. Случалось, я, проснувшись ночью, мчался зафиксировать какую-нибудь решающую поправку, которая влекла за собой нескончаемую цепь перестановок. А иногда вечером ложился с чувством облегчения от того, что наконец нашел идеальное решение, а пробудившись утром, рвал его на части". Таверна вышла в 1973 году. Опыт Кальвино очень показателен: в нем одержимость формой вступает в конфликт со стремлением к осмыслению, которое черпает свои фантазмы в игре воображения. Первый роман, Замок, был создан словно по божественному наитию, и расклад карт здесь безупречен с точки зрения формы. В Таверне от былой строгости не осталось и следа: здесь управляет хаотичная логика самого рассказа с его многочисленными воображаемыми аллюзиями. Как если бы холодное безразличие швейцарского часового завода сменилось шумным кавардаком восточного базара.