| Русский Журнал
/ Круг чтения / Шведская полка www.russ.ru/krug/vybor/20020220.html |
|
Шведская лавка # 58 Дата публикации: 20 Февраля 2002 Выпуск подготовил Роман Ганжа

Жан Старобинский. Поэзия и знание: История литературы и культуры. Т. 1 / Пер. с фр. Е.П.Васильевой, Б.В.Дубина, С.Н.Зенкина, В.А.Мильчиной, М.С.Неклюдовой, Т.И.Смоляровой, П.П.Шкаренкова; Сост., отв. ред. и авт. предисл. С.Н.Зенкин. - М.: Языки славянской культуры, 2002. - 496 с. - (Язык. Семиотика. Культура). Тираж не ук. ISBN 5-94457-002-4 Жан Старобинский (Jean Starobinski, 1920) - всемирно известный швейцарский филолог и историк культуры, профессор Женевского университета. Данный двухтомник (второй том выйдет месяца через два) - первое книжное издание Старобинского на русском языке. В первый том вошли избранные статьи ученого за период с 1957 по 1995 год, в частности, из знаменитой книги "Жан-Жак Руссо. Прозрачность и преграда" (1957), послужившей отправной точкой для некоторых анализов Деррида (см., например, с. 305 русского издания "О грамматологии"). Главная тема многих работ Старобинского - соотношение видимости (иллюзии) и сути в различных, если можно так выразиться, "практиках себя". Скажем, психоанализ претендует на статус рациональной методики достижения self-identity (это и есть тот товар, за который клиент платит большие деньги аналитику). Метод состоит в переходе от иллюзорного, искусственного, "фигурального" Я к "буквальному", в его дериторизации. На самом же деле психоанализ "говорит, сам об этом не догадываясь, языком литературы" и торгует иллюзиями; причем покупатель, сам того не ведая, как раз в иллюзиях и нуждается. Реальность ничего не стоит: вот парадоксальное основание своеобразной "экономики себя", которую Старобинский исследует в статьях, посвященных ключевым фигурам французской культуры XVII - XIX веков. Так, герои Корнеля "выдумывают самих себя, пытаясь добиться сходства с неким достойным восхищения образцом". Воображаемое Я нельзя назвать "ложным", поскольку никакого "истинного" Я не существует: есть лишь чистый вымысел, более или менее удачный (удачный сюжет завершается "признанием", ослепительным зрелищем героя в блеске славы, неудачный - безымянностью, отсутствием идентичности, несуществованием). В трагедиях Расина открывается измерение "убийственной правды", противостоящее иллюзиям и ослеплению. Быть объектом взгляда - значит быть виновным. Кульминация трагедии - момент, когда взгляд и объект совмещаются (герой "видит себя"). И все же "правда" не более реальна, чем "видимость", так же как и "память" не более реальна, чем "забвение", потому что источник и того и другого - все та же литература: "Высшее видение отдано поэзии, из нее все исходит, и к ней все возвращается. <...> Для зрителя трагическое знание оборачивается странным удовольствием осознавать греховность и слабость человека". Герой "Исповеди" Руссо характеризуется прежде всего способностью к интерпретации: "Переживать реальное событие как сцену из романа; уметь <...> раскрыть окружающим и самому себе авантюрный смысл происходящего - на все это способен лишь тот, кто в совершенстве изучил романический мир, кому знакомы традиционный язык страсти, ее мифы и предания и кто может соотнести со всем этим события своей собственной жизни". Жан-Жак, которому язык книг заменяет утраченную мать, интерпретирует (то есть осмысливает, создает) по сути дела самого себя, восполняя исходную недостачу: "В этой "книжной" интерпретации себя (и пережитой ситуации) очевиден синдром безумного Дон Кихота". Далее, через фигуры Жермены де Сталь и Стендаля раскрывается "донкихотский" характер современной литературы как таковой: "Вступление в литературу требует пожертвовать собой ради творчества, уничтожить личное эмпирическое существование <...> в пользу вторичного существования, <...> подменной жизни по законам вымысла". 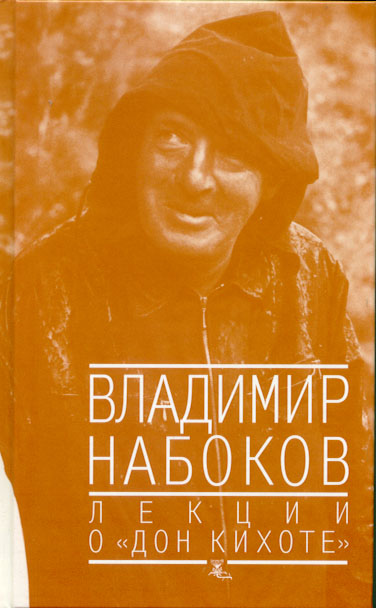
Владимир Набоков. Лекции о "Дон Кихоте" / Пер. с англ. И.М.Бернштейн, М.А.Дадяна, Г.М.Дашевского, Н.Г.Кротовской; Предисл. Ф.Бауэрса, Г.Дэвенпорта. - М.: Издательство Независимая Газета, 2002. - 328 с., ил. - (Серия "Литературоведение"). Тираж 5000 экз. ISBN 5-86712-091-0 Курс лекций, прочитанный в Гарварде в 1951 - 1952 годах. Основные разделы: "Два портрета: Дон Кихот и Санчо Панса", "Композиция", "Жестокость и мистификация", "Тема летописцев, Дульсинея и смерть", "Победы и поражения" (вопреки распространенному мнению о Дон Кихоте как неудачнике, счет поединков равный, 20:20), "Повествование и комментарий" (подробный конспект романа для ленивых ), "Приложение" (отрывки из рыцарских романов, отпечатанных на мимеографе и розданных Владимиром Набоковым студентам для ознакомительного чтения). В своем предисловии к набоковским лекциям американский поэт, эссеист и переводчик Гай Дэвенпорт пишет о слове "донкихотский", которое "в настоящее время может означать все, что душе угодно. Ему следовало бы означать нечто вроде "галлюцинирующий", "само-завороженный" или "игра - в столкновении с реальностью". Как случилось, что слово это стало синонимом "восхитительно идеалистичного" - пытается объяснить Набоков в своих лекциях". Лекции открывает блестящий пассаж о соотношении "жизни" и "литературы": понятие "жизнь" основано на системе абстракций (вроде "среднего человека", который "всего лишь плод вымысла, хитросплетение статистики"), и литература соприкасается с "жизнью" лишь в меру своей отвлеченности. Чем меньше в книге отвлеченного, чем ярче и новее подробности, тем дальше она отходит от "жизни", поскольку "жизнь" - это "обобщенный эпитет, заурядное чувство, одураченная толпа, мир общих мест". Дон Кихот - эксцентричный, обаятельный безумец, смешивающий реальность и иллюзию. В набоковских "грезах наяву" (так В.Н. сам определяет жанр своих лекций) на стороне Реальности - серость, посредственность, грубая жестокость и обман. Осмеять, одурачить, унизить... Пригвоздить к позорному столбу, распять наконец. Реальность не стоит потраченных на ее описание чернил и бумаги. Реальность вообще ничего не стоит: ценность ей придает лишь "восхитительное безумие" Дон Кихота - подлинная движущая сила повествования. Набоков и сам старается силой поэтического вымысла "оживить" заезженный унылыми интерпретациями роман Сервантеса: "Дадим волю нашей фантазии, доведенной до сладкого безумия неумеренным чтением книг о приключениях Дон Кихота. <...> Мне кажется, Сервантес упустил возможность воспользоваться намеком, который он сам же обронил, - он должен был сделать так, чтобы в финальной сцене Дон Кихот сражался не с Карраско, а с подложным Дон Кихотом Авельянеды [до сих пор не раскрытый псевдоним автора фальшивой "второй части" романа, выпущенной годом раньше настоящей, то есть в 1614 г. - Р.Г.]. <...> А так как я грежу наяву, позвольте мне добавить, что мне не дает покоя судьба книг; написать под чужим именем мнимое, поддельное продолжение, чтобы заинтриговать читателя продолжения подлинного - это лунная вспышка искусства писателя. В неверном зеркальном отражении сам Авельянеда должен оказаться Сервантесом".

Георгий Адамович. Одиночество и свобода. - СПб.: Алетейя, 2002. - 471 с. Тираж 1200 экз. ISBN 5-89329-435-1 Очередной том полного собрания произведений Георгия Викторовича Адамовича (1892 - 1972) под редакцией Олега Коростелева. Предыдущие выпуски: "Литературные беседы" (1998, в двух книгах), "Стихи, проза, переводы" (1999), "Комментарии" (2000). "Одиночество и свобода" (Нью-Йорк: Издательство имени Чехова, 1955) - единственная прижизненная книга критической прозы Г.А. Начиная с 1988 года статьи из книги неоднократно перепечатывались в российской периодике, дважды книга переиздана целиком: с примечаниями Луи Аллена (СПб.: Logos, 1993) и с примечаниями Вадима Крейда (М.: Республика, 1996). К высказанной Мирославом Немировым грустной правде о творческом методе Георгия Адамовича, пожалуй, нечего добавить. Очевидно, что Христофор Мортус из набоковского "Дара" - это единственный Адамович, который останется в истории, более того, это и есть "настоящий", "подлинный" Адамович, преображенный волшебной силой искусства: даже его обычное критическое занудство под чудотворным пером мастера становится высокой поэзией: "Но в наше трудное, по-новому ответственное время, когда в самом воздухе разлита тонкая моральная тревога, ощущение которой является непогрешимым признаком "подлинности" современного поэта, отвлеченно-певучие пьески о полусонных видениях не могут никого обольстить. И право же, от них переходишь с каким-то отрадным облегчением к любому человеческому документу, к тому, что "вычитываешь" у иного советского писателя, пускай и не даровитого, к бесхитростной и горестной исповеди, к частному письму, продиктованному отчаянием и волнением". А так как я грежу наяву, то позвольте мне предположить, что "Георгий Адамович" - это псевдоним самого Владимира Набокова: долгие годы писать ядовито-пренебрежительные, безответственные и поверхностные разносы сиринских опусов, чтобы неизменно удерживать их в поле зрения читательской аудитории - просто какой-то солнечный шквал писательского мастерства...

Геннадий Айги. Разговор на расстоянии: Статьи, эссе, беседы, стихи. - СПб.: Лимбус Пресс, 2001. - 304 с. Тираж 3000 экз. ISBN 5-8370-0149-2 (Роскошное издание. Подарочное. Фотографии. Рисунки. Живопись. Плакаты.) В основании поэтики Геннадия Айги лежит любопытный парадокс. С одной стороны, его стихи неотделимы от авторской авторефлексии, они "прочитываются" лишь в контексте многочисленных самоописаний и самоистолкований (порядок расположения материала в книге не оставляет на этот счет никаких сомнений: стихи здесь скорее иллюстрируют теоретические декларации). С другой стороны, Айги видит свое назначение как поэта именно в последовательном отказе от любых "интерпретаций себя", другими словами - от любых "реальных" поэтических действий (слово "реальный" означает здесь как раз "призрачный", "неподлинный"). "Реальное" действие - это оперирование "готовым" словом, это как бы "позиционирование" себя в уже сложившемся поэтическом языке, помещение себя в чужой сюжет. Айги называет такую культурную позицию "сыновьей" - это, скажем так, позиция "маленького человека", требующего признания, "претендующего на себя" (выражение Старобинского), "обналичивающего" себя (свой тайный капитал, свою "душу") в слове (значит, чем больше слов, тем больше человек стоит). Подлинное поэтическое действие - это "отцовский" жест, наделенный силой закона и не нуждающийся в признании, не допускающий никакого скрытого "я", которое обнаружится затем в языке; это жест лаконичный и скупой, скорее намек, чем развернутое высказывание. Более того, это слово, которое сопротивляется собственному вхождению в "поэтический канон", предпочитая оставаться "молчащим", табуированным словом. Отсюда "бунт против культа сыновей" - Айги видит себя не патриархом рода, обреченным на ритуальное убийство собственными сыновьями, но скорее демиургом "дочернего мира". Сын забирает часть отцовской силы, оставляя на ее месте "пустоту" и "нехватку". Дочь для Айги означает "возвращение, воскресение моей матери", которая рано умерла. Дочерний мир - восполнение неполноты, "наличие и продолжительность сути, не исчезающей со смертью преходящего", удержание мира в состоянии до травматического События, а значит - вдали от любых событий, в пространстве детства: "Родные же нам места, - те, где мы родились и выросли, - связаны с гениальностью детства <...>, - мы так невероятно (даже волшебно) открывали их и осваивали, что продолжаем всю жизнь находить признаки, следы, "отпечатки" этой гениальности. И вот, говорит тогда и ландшафт, и поэт". 
Михаил Рыклин. Пространства ликования: Тоталитаризм и различие. - М.: Издательство "Логос", 2002. - 280 с. Тираж 1500 экз. ISBN 5-8163-0026-1 Михаил Рыклин (1948) - международный философ, автор книг "Террорологики" (Тарту: Эйдос, 1992) и "Искусство как препятствие" (М.: Ad Marginem, 1997). В состав сборника включены избранные статьи 1995 - 2001 гг. Ключевые слова: авангард, Беньямин, метро, Москва, Сорокин, соцреализм, Фадеев, фашизм. Полемическое ядро книги - критика гипотезы (Арендт, Безансон и др.), согласно которой тоталитаризм (в обеих его формах, между которыми устанавливается сущностное сходство) является "вымыслом, иллюзорным, чисто словесным построением, которое объявляет войну не на жизнь, а на смерть "реальности", "действительности", "здравому смыслу"". Следствия этой гипотезы - объяснение возвышенного (по логике которого устроен тоталитарный дискурс) в терминах прекрасного / безобразного, эстетизация тоталитарной действительности, интерпретация идеологических высказываний через сами же эти высказывания - то есть отношение к ним как к поэтическому тексту. Между тем, как показывает Рыклин, утверждение собственного преимущественного права на реальность - это как раз фигура тоталитарной риторики (связанная с отрицанием зрения с его способностью к детализации и приватизации реальности через описание: коллективная речь становится единственным инструментом "видения"), поэтому отказывать тоталитаризму в реальности - значит поддерживать его тоталитарный пафос. Логика возвышенного - это логика грандиозного спектакля: действия главных героев направляются не "разумом" (то есть не включаются в "готовый", общепризнанный свод норм и мотивов), но "волей". Любой жест нерасчленим, неповторим, несводим к каким-либо основаниям. Сторонники критикуемой Рыклиным гипотезы по сути поддерживают эту логику, рассматривая "тоталитаризм" как романтическое произведение искусства, как нечто в себе не дифференцированное и цельное (тогда как на самом деле оно противоречиво и двойственно). 
Геннадий Гор. Корова: Роман, рассказы / Предисл. А.Битова. - М.: Издательство Независимая Газета, 2001. - 440 с. - (Серия "Четвертая проза"). Тираж 5000 экз. ISBN 5-86712-106-2 Геннадий Гор (1907 - 1981) - советский писатель-фантаст. Роман "Корова" (1930), супрематическая агитка эпохи возникновения колхозов, в книжном варианте публикуется впервые. О судьбе романа (запрещен, утерян...) рассказывает в предисловии Андрей Битов. Кроме "Коровы", в сборник вошли рассказы разных лет. Роман запретили не зря: колхозники и кулаки в нем практически неотличимы друг от друга. И колхоз, и кулацкий двор - это "торжество живописи над действительностью". Живопись, в свою очередь, диктуется не столько "натурой", сколько идеологически обусловленным способом видения: "Огород надо читать не с правой стороны, чтобы увидеть дорого, а с левой, чтобы видеть огород". Слово создает предмет и справа, и слева, только "правый" предмет - небытие, химера, а "левый" - совпадает в образе с самим собой. И кулак, и колхозник видят действительность такой, какой бы они хотели ее видеть, только вот колхозник хочет, чтобы действительность была такой, какова она есть, а кулак хочет видеть действительность искаженной, заключенной в рамки устаревших, дореволюционных образов (пейзаж Нестерова - "торжество духа над материей", тайная вечеря Леонардо - "все дышит святостью"). Кулак желает, чтобы вещи были не тем, что они есть, а подражаниями чему-то другому; колхозник же и в своей изобразительной деятельности (в колхозе есть кружок ИЗО) создает не подражания, а сущности: "Художник сказал все, что хотел сказать. Вот бараны Петухова, вот свиньи Петухова, но они не похожи на своего хозяина, потому что они и есть хозяева. И в самом деле, из бараньих и свиных голов просвечивает голова Петухова". Если вдуматься, кулаков ведь вообще не существует: если есть кулак, то он не желает быть самим собой, то есть кулаком. Кулак сам себя уничтожает, превращает в музейную пыль. Только дунь - ее и нет. В предыдущих выпусках
Сводный каталог "Шведской лавки" |