 |
||
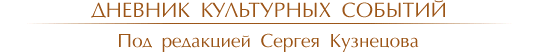 |
 |
||
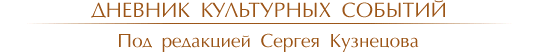 |
Глубокое разочарование и негаданная радость - то и другое от довольно свежего русского кино. Радость - после "Страны глухих" Валерия Тодоровского; еще на "Подмосковных вечерах" этот субтильный кокетливый интервьюфил доказал, что владеет языком среднего, но стильного европейского кинематографа, и картинку заставляет оператора держать, и актерам на мозги не давит. Пишут, что "Страна..." - картина конъюнктурная, на экспорт. Будто Каракс или Бессон снимают сознательную конъюнктуру (Бессон, впрочем, в последнее время снимает, хоть и пытается подпустить туда самоиронии). Чернуха? Нагнетание этнографизма? Да чернухи, этнографизма и не то что конъюнктуры даже, а бесстыдной спекуляции в "Прорве" - вот где было навалом, топор вешай. Тем не менее Дыховичный у нас классик, а Тодоровский - ремесленник. "Страна..." - вовсе не Россия никакая, и хорошо, что не Россия. Просто город, просто ночь, просто бандиты. (Нечто подобное пробовал сделать в последнем фильме Лунгин, но перетарантинил.) Городской ландшафт, блики неона и человеческий силуэт - предметы эстетики, а не патетики, наконец-то. Ну и подарок мне лично: героиня Чулпан Хаматовой смеется точь-в-точь, как моя любовь на третьем курсе.
Разочарование - "Время танцора" Абдрашитова и Миндадзе. Блоки звероватых пафосных концептов, подобных тем, из которых лепился грандиозный монолит "Армавира", рассыпаются: раствору, видно, не подвезли. Между блоками свистит фальшивый сквозняк, становится сперва неуютно, потом стыдно, потом скучно. Знаменитые "сюрреалистические" монологи Миндадзе, оказывается, допускают провинциальное сюсюканье, подвывание, наигрыш. Непонятно, кто из персонажей, кому, кем, когда и зачем. Лишь Чулпан Хаматова скалится инфернально, как сиделка над чьим-то смертным одром. Будем надеяться - над смертным одром абстрактного зрителя.
"Страна глухих" - "Художественный"; "Время танцора" - "Дом Ханжонкова", "Художественный", "Зарядье"
Эти несколько маленьких залов с "Рисунками Сергея Эйзенштейна" (выставка в Музее личных коллекций ГМИИ) - что-то особенное. Часть я уже видел в репродукциях, и потому относился к ним так же, как к побочным занятиям прочих великих кинематографистов (по которым вырисовываются не самые приятные черты личности): к витально-жеманным и всегда старчески-порнографическим почеркушкам Феллини или туповато-стильным "дизайнам" Гриневея. Как к чему-то стыдному в поведении уважаемого знакомого, что хочется не заметить или, по крайней мере, стереть из памяти сразу вслед за тем, как оно проявилось. И вдруг ба-бах!
Рисование, начатое как обычное детское занятие, так ни во что индустриально-артистическое не перешедшее, а оставшееся в живых до дня смерти. Подростковый рисунок, еще в манере мирискуснических мальчиков - длиннейшая змея очереди (дело, кажется, происходиит в 1914 году), вся-вся изукрашенная сюжетиками и забавными диалоговыми сценками. И поздние, циклами длящиеся - пока сами не иссякнут - в неоклассической силе эрото-танатального эпоса. И еще множество "прикладных", относящихся к работе над сделанными и не сделанными фильмами. А между ними еще и особые: две"граммы" свободного экспериментирования, относящиеся к кино так же, как ко всему прочему. Серия "Витражи" - орнамент прорисованных красным карандашом тел, с выделенной в синие "рамки" кадрировкой фрагментов. Где изображение вписывается совсем не в привычную фильмически прямоугольную картинку (представьте себе такое, до сих пор не существующее, кино с узорчатым контуром кадра). А рядом еще серия, где те же красный и синий уже работают как два параллельных -звуко-цветовой и визуальный - орнаментальных плана. Рассказы, увлекательные, как хорошая литература (не хуже самих эйзенштейновских мемуаров), нарисованные бесконечно емкими словами изображений. По памяти даже кажется, что сами пояснительные подписи к рисункам невольно исполнены в том же стиле, что и всякий раз разная их изобразительная графика.
Но при этом повсеместный холодок смешанного с восхищением ужаса. Эскизы к "Ивану Грозному" с текстом вроде того, что "голова отца, только что отрубленная, смотрит снизу вверх на стоящего сына...". Или к неосуществленному "Большому Ферганскому каналу", изображающие различные способы кладки ... из человеческих тел, затем обмазываемых глиной - с пояснениями типа:"по десять в ряд ... эта кладка все-таки лучше". Как не вспомнить пролетарского скульптора Ивана Шадра, желавшего использовать пепел кремированных человеческих тел (в качестве, как он считал, исключительно пластичного материала) для изготовления мемориальных групповых скульптур в современных некрополях.
Рорик Эйзенштейн, мальчик из хорошей семьи, по собственным словам, откровенно недобравший в детстве опыта жестокости, но зато отыгравшийся в своем взрослом творчестве. Зигмунд Фрейд, не без детского опыта особого отношения к папеньке и маменьке, превратившийся в первопроходца психоанализа... Перечисление не хотелось бы самым пошлым образом развивать - не знаю, например, как было дело с Дарвином (хотя, по версии Пелевина, вполне в том же роде). Короче говоря: явно многие из великих естествоиспытателей новейших времен были вечными "плохими мальчишками". Самые бездарные из них пошли в "мальчишки взрослые", в большевики, а те, что получше, стали именоваться художниками и учеными, поскольку с "этой жизнью", с ее разметанной в пространстве косностью, жить им было скучновато. Некоторые пошли прямо в сюрреалисты. Эйзенштейн был бы важнейшим представителем сюрреализма, если б таковой в России существовал.
Утесов как-то назвал его "половым мистиком", на что Эйзенштейн мгновенно отреагировал:"Лучше быть половым мистиком, чем мистичковым... половым" ("Мне иногда удаются словесные характеристики. Особенно злые"). То есть он был, как и подобает сюрреалисту, остроумным человеком. Глубинно остроумным, изобретательным в переделке смутной поверхности жизни в непристойную реальность. Конструктором, более радикальным, нежели современные ему конструктивисты. Конструировавшим (или деконструктивировавшим) не формы и функции, а образные структуры, устройства визуальной пластики, зрительной скульптурности и зрительской системы реакций (однажды даже почти серьезно обсуждавший съемку фильма для собак). Для которого кино было главным, но не единственным из искусств, только частью тотального способа жить и думать - монтировать небытие со здешними данностями, выстраивая из них невиданные скульптуры.
Музей Личных Коллекций
В день, когда я вышел из больницы, мне показалось, что машин стало намного больше. Чудовищно больше. Что они собрались вместе с определенной целью. Миллионы движущихся железяк заполонили пространство, шушукаясь, словно грузовики Касл-Рока, и тараня чужаков, словно автоматы кока-колы из Хевена. Словно демонический "плимут" с женским именем Кристина. Но автокатастрофа - акт оплодотворения, а не разрушения. Она высвобождает сексуальную энергию. Энергия зрителей соединяется с сексуальной мощью мертвецов. Томминокеров.
Режиссер Дэвид Кроненберг и писатель Стивен Кинг больны одной и той же болезнью: экзистенциальной шизофренией. Неестественные, нечеловеческие их фантазии работают в унисон и рождают сны, которые слаще смерти, и почти настолько кошмарные, как жизнь. В 1983 году Кроненберг взялся экранизировать лучший роман Кинга "Мертвая зона" и потерпел неудачу. Через три года он снял "Муху" - один из самых страшных фильмов в истории. А спустя еще двенадцать лет канадец сделал кино по роману Джей Джи Балларда "Автокатастрофа", заложив в него всех кинговских лангольеров, томминокеров, кристин и джонов смитов вместе взятых. И пережил триумф.
В воскресенье по ОРТ я снова посмотрел "Муху", но машин не стало меньше. Мутация человека в насекомое - ерунда. То ли дело превратиться в машину.
На каком-то зазеркальном уровне это - такая странная история любви. Произведения Балларда всегда футуристичны, потому это современная история о людях будущего. То, что случилось с нашими чувствами, восприятием секса, любви и дружбы, - очень страшно. Мы предельно разобщены и одиноки.
Актеры в "Автокатастрофе" не просто хороши. Многие являются знаковыми фигурами. Холли Хантер - вконец развращенная учительница музыки из "Пианино". Джеймс Спейдер - экстраполяция образа вуайериста из "Секс, ложь и видео". Греческий великан Элиас Котиас мутировал в "Автокатастрофу" из "Экзотики".
Машина - огромная постель на колесах. Здесь разлит аромат бензина и спермы. Расскажи мне, как пахнет мотор. Ты открываешь капот, достаешь коленчатый вал. Ты погладишь его или сразу начнешь целовать? Знаешь, какой у него вкус?
Судьбы героев "Автокатастрофы" метафоричны. На самом деле фильм рассказывает о совмещении машинных технологий с сексом. Современный ритм жизни завораживает людей, действует как наркотик, и мы начинаем относиться друг к другу как к предметам.
Появление фильма на наших экранах совпало с поражением чемпиона мира по шахматам от компьютера Ай Би Эм. Борьбой человека с машинами, лишенными нравственного начала. Живых с мертвецами. Человека с мухой. Каспарова с Карповым. Кинга с Кроненбергом. Джона Смита с собственным отражением.
Перемоделировать человеческое тело. Вивесицировать себя, срастить с машиной и, раздавив дрожащей ногой газовую педаль, вырулить на встречную полосу. Тщетно.
Что случилось с движением? Где все машины?
Они исчезли.
Одна из последних сцен - пустое шоссе. Оно пусто, потому что иные Кроненберга не интересует. Они пустышки, приспособившиеся к реальности, заслужившие покой, но не заслужившие ни света, ни автокатастрофы.
В сакраментальном вопросе: "Дорогая, с тобой все в порядке?" - звучит надежда. "Спасибо, кажется, да". - "Не расстраивайся, любовь моя. Может быть, в следующий раз повезет больше".
Живая Кристина на страшной скорости пронеслась мимо. Томминокеры остались на обочине. Одни-одинешеньки.
И ни единой мухи - на сотни миль вокруг.
ОРТ, воскресенье
 |
| © Авторы "Пегас Light", 1998 | © Русский Журнал, 1998 |
| © Сергей Кузнецов, редактор и составитель, 1998 | © Максим Егоров, дизайн, 1998 |