С.
Медведев
СССР: деконструкция текста
(К 77-летию советского дискурса)
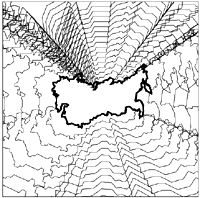
![]() Вступление
Вступление
![]() Немногим
известно, что в 1925 г. при Совете
Народных Комиссаров была создана
Чрезвычайная комиссия по
картографии увеличенного масштаба
(ЧЕКОКУМ) под руководством
тогдашнего зампреда РВС
И.С.Уншлихта. В ее задачу входила
подготовка к десятилетию Октября
юбилейного издания карты СССР.
Первоначально предполагалось
использовать одноверстку царского
генштаба, но в ходе работы
картографы, исполненные
революционного энтузиазма, решили
взять гораздо больший масштаб:
первое в мире государство рабочих и
крестьян заслуживало самой
подробной в мире карты. Ввиду
архисложности задачи сроки работы
отодвинули.
Немногим
известно, что в 1925 г. при Совете
Народных Комиссаров была создана
Чрезвычайная комиссия по
картографии увеличенного масштаба
(ЧЕКОКУМ) под руководством
тогдашнего зампреда РВС
И.С.Уншлихта. В ее задачу входила
подготовка к десятилетию Октября
юбилейного издания карты СССР.
Первоначально предполагалось
использовать одноверстку царского
генштаба, но в ходе работы
картографы, исполненные
революционного энтузиазма, решили
взять гораздо больший масштаб:
первое в мире государство рабочих и
крестьян заслуживало самой
подробной в мире карты. Ввиду
архисложности задачи сроки работы
отодвинули.
![]() В 1930-е в работу
Комиссии, которая велась в
обстановке строжайшей секретности
под контролем ОГПУ/НКВД,
вовлекались тысячи картографов. В
1932 г. во главе Комиссии встал
С.М.Киров, которого в 1934 г. сменил
Г.К.Орджоникидзе и в 1937 г. -
Л.М.Каганович. Под их руководством
безымянные ударники первых
пятилеток, картографы-стахановцы
неуклонно наращивали масштаб
карты. Работа не прекращалась и в
годы Великой Отечественной войны,
когда Комиссия была эвакуирована в
г. Камышлов на Урале. На
заключительном этапе работ в 1948 - 1949
гг. были задействованы все
полиграфические мощности страны. В
конце 1949 г., к 70-летию И.В.Сталина,
нежно-розовая карта масштаба 1:1
была готова. В ночь с 20 на 21 декабря
1949 г. силами внутренних войск карта
была развернута.
В 1930-е в работу
Комиссии, которая велась в
обстановке строжайшей секретности
под контролем ОГПУ/НКВД,
вовлекались тысячи картографов. В
1932 г. во главе Комиссии встал
С.М.Киров, которого в 1934 г. сменил
Г.К.Орджоникидзе и в 1937 г. -
Л.М.Каганович. Под их руководством
безымянные ударники первых
пятилеток, картографы-стахановцы
неуклонно наращивали масштаб
карты. Работа не прекращалась и в
годы Великой Отечественной войны,
когда Комиссия была эвакуирована в
г. Камышлов на Урале. На
заключительном этапе работ в 1948 - 1949
гг. были задействованы все
полиграфические мощности страны. В
конце 1949 г., к 70-летию И.В.Сталина,
нежно-розовая карта масштаба 1:1
была готова. В ночь с 20 на 21 декабря
1949 г. силами внутренних войск карта
была развернута.
![]() Далее эта
история становится путаной,
туманной, расползается во
множестве недомолвок, оговорок и
гипотез. Борхес ("Otras inquisiciones",
1946) вслед за Джосайей Ройсом ("The
World and the Individual", 1899) предполагает,
что в силу природных причин, а также
нерадения хранителей карта
постепенно пришла в упадок, и
теперь лишь в отдаленных углах
державы (в частности, на Саянском
хребте и в пустыне Кызылкум) можно
увидеть ее дотлевающие лохмотья.
Жан Бодрийар ("Simulacres et simulations",
1977), напротив, считает, что карта,
изготовленная из легкого и
прочного сталитекса, хорошо
сохранилась, а вот страна пришла в
упадок, стала разрушаться. Остается
одна исполинская карта, под которой
дотлевают остатки державы, подобно
туше ископаемого животного. "Это
реальность, - пишет он в
свойственной ему изысканной
манере, - а не карта, чьи следы
остались там и здесь, в пустынях,
которые принадлежат уже не Империи,
но нам самим. Пустыня самой
реальности" (Ibidem).
Далее эта
история становится путаной,
туманной, расползается во
множестве недомолвок, оговорок и
гипотез. Борхес ("Otras inquisiciones",
1946) вслед за Джосайей Ройсом ("The
World and the Individual", 1899) предполагает,
что в силу природных причин, а также
нерадения хранителей карта
постепенно пришла в упадок, и
теперь лишь в отдаленных углах
державы (в частности, на Саянском
хребте и в пустыне Кызылкум) можно
увидеть ее дотлевающие лохмотья.
Жан Бодрийар ("Simulacres et simulations",
1977), напротив, считает, что карта,
изготовленная из легкого и
прочного сталитекса, хорошо
сохранилась, а вот страна пришла в
упадок, стала разрушаться. Остается
одна исполинская карта, под которой
дотлевают остатки державы, подобно
туше ископаемого животного. "Это
реальность, - пишет он в
свойственной ему изысканной
манере, - а не карта, чьи следы
остались там и здесь, в пустынях,
которые принадлежат уже не Империи,
но нам самим. Пустыня самой
реальности" (Ibidem).
![]() По Бодрийару,
знак (карта) оказывается прочнее,
долговечнее и в конце концов
реальнее своего референта (страны).
Более того, карта превращается в
единственную реальность
("гиперреальность", называет
он ее), в мир таинственных линий и
символов, которые существуют
совершенно независимо, сочетаясь и
пересекаясь по собственному
произволению. Эту прихотливую игру
эмансипированных знаков он именует
"символическим обменом".
По Бодрийару,
знак (карта) оказывается прочнее,
долговечнее и в конце концов
реальнее своего референта (страны).
Более того, карта превращается в
единственную реальность
("гиперреальность", называет
он ее), в мир таинственных линий и
символов, которые существуют
совершенно независимо, сочетаясь и
пересекаясь по собственному
произволению. Эту прихотливую игру
эмансипированных знаков он именует
"символическим обменом".
![]() Все было так. И
пусть какие-то имена и даты неверны,
пускай сама эта история об
отношении карты и территории, знака
и референта, текста и жизни - лишь
выдумка, она неким странным образом
соотносится с нашей
действительностью. Не советской
только. Что-то российское в ней
слышится, унылое, как песня ямщика,
бесконечное, как дорога в степи.
"Что вижу, то пою". Или что пою,
то и вижу?
Все было так. И
пусть какие-то имена и даты неверны,
пускай сама эта история об
отношении карты и территории, знака
и референта, текста и жизни - лишь
выдумка, она неким странным образом
соотносится с нашей
действительностью. Не советской
только. Что-то российское в ней
слышится, унылое, как песня ямщика,
бесконечное, как дорога в степи.
"Что вижу, то пою". Или что пою,
то и вижу?
![]() Одно в этой
истории неоспоримо: Россия
обречена тексту, власти знаков.
Ориентация отечественной
культурной традиции на слово
перерастает в зачарованность
словом. В России силен соблазн
текста, знака, видимости.
Потемкинская деревня -
специфически российский текст,
нереферентная знаковая система.
Его разновидность - "великая
русская литература", реализующая
большинство общественных и
политических функций, замещающая
невоплотившиеся институты.
Одно в этой
истории неоспоримо: Россия
обречена тексту, власти знаков.
Ориентация отечественной
культурной традиции на слово
перерастает в зачарованность
словом. В России силен соблазн
текста, знака, видимости.
Потемкинская деревня -
специфически российский текст,
нереферентная знаковая система.
Его разновидность - "великая
русская литература", реализующая
большинство общественных и
политических функций, замещающая
невоплотившиеся институты.
![]() Ситуация, в
общем, нисколько не изменилась и
сегодня: советская (в том числе
современная российская) культура
живет под тотальным диктатом
словесности. Так, анализируя
современное отечественное кино,
Михаил Ямпольский пишет о его
литературоцентричности,
невизуальности, стремлении к
тотальной вербализации (1). В
этой связи можно говорить о
доминировании в культуре особого
"речевого зрения" (2),
которое направлено не на предметы,
а поверх и как бы сквозь них - на
умозрительные сущности,
обретающиеся исключительно в речи,
в слове. Для этого зрения не
существует телесности: своим
взглядом мы не регистрируем
предметы, а классифицируем их в
соответствии с особой речевой
организацией нашего сознания. К
примеру, глядя на среднерусский
пейзаж, мы не отмечаем бесстрастно -
облако, озеро, силосная башня, - а
сразу проскакиваем на уровень
абстракций и преисполняемся
щемящего чувства: "неяркие
просторы" (Ахматова), "край
родной, навек любимый"
(Матусовский), Россия... "Широка
страна моя родная" - не
констатация географического факта,
а политическое заявление. Когда
Твардовский, едущий в поезде по
Транссибу, пишет "За далью -
даль", то имеет в виду не ландшафт
в окне, а идеологический пейзаж:
"за вехой - веха", "ветер
века" и т.д.
Ситуация, в
общем, нисколько не изменилась и
сегодня: советская (в том числе
современная российская) культура
живет под тотальным диктатом
словесности. Так, анализируя
современное отечественное кино,
Михаил Ямпольский пишет о его
литературоцентричности,
невизуальности, стремлении к
тотальной вербализации (1). В
этой связи можно говорить о
доминировании в культуре особого
"речевого зрения" (2),
которое направлено не на предметы,
а поверх и как бы сквозь них - на
умозрительные сущности,
обретающиеся исключительно в речи,
в слове. Для этого зрения не
существует телесности: своим
взглядом мы не регистрируем
предметы, а классифицируем их в
соответствии с особой речевой
организацией нашего сознания. К
примеру, глядя на среднерусский
пейзаж, мы не отмечаем бесстрастно -
облако, озеро, силосная башня, - а
сразу проскакиваем на уровень
абстракций и преисполняемся
щемящего чувства: "неяркие
просторы" (Ахматова), "край
родной, навек любимый"
(Матусовский), Россия... "Широка
страна моя родная" - не
констатация географического факта,
а политическое заявление. Когда
Твардовский, едущий в поезде по
Транссибу, пишет "За далью -
даль", то имеет в виду не ландшафт
в окне, а идеологический пейзаж:
"за вехой - веха", "ветер
века" и т.д.
![]() О "вехах"
разговор особый. Знаковость
отечественной традиции
реализуется в ряде специфических
символов, среди которых верстовой
(он же пограничный) столб. Символ
шири и могущества Российской
империи - символ яма, тракта,
Владимирки, шоссе Энтузиастов,
пронзившего страну от Москвы до
Магадана. Вертикальная
устремленность столба - знак
завета, высшей санкции. (А
положенный горизонтально, столб
обращается в полосатый шлагбаум -
символ земной власти.) Не карта и
верстовые столбы следовали за
созданием империи, а империя была
обречена верстам, столбам и карте (3).
(Сходным образом Америка обречена
была фронтиру, переселенческому
фургону.)
О "вехах"
разговор особый. Знаковость
отечественной традиции
реализуется в ряде специфических
символов, среди которых верстовой
(он же пограничный) столб. Символ
шири и могущества Российской
империи - символ яма, тракта,
Владимирки, шоссе Энтузиастов,
пронзившего страну от Москвы до
Магадана. Вертикальная
устремленность столба - знак
завета, высшей санкции. (А
положенный горизонтально, столб
обращается в полосатый шлагбаум -
символ земной власти.) Не карта и
верстовые столбы следовали за
созданием империи, а империя была
обречена верстам, столбам и карте (3).
(Сходным образом Америка обречена
была фронтиру, переселенческому
фургону.)
![]() Российская
империя была следствием и
заложником своей географии - но не в
геополитическом смысле. Три
бремени, говорит Иван Ильин, лежали
на России: бремя земли,
разбегающегося пространства; бремя
природы - океан суши, оторванной от
вольного моря, "гладь повсюдная,
безгорная"; и бремя народности - в
смысле многообразия этносов, рас,
религий (4). Необъятность,
гетерогенность, неподъемность
этого пространства призывала не к
практическому (по сути
невозможному), а к символическому
его освоению. Прирастание России
было актом не экономическим,
стратегическим или метафизическим,
а пространственно-символическим,
знаковым.
Российская
империя была следствием и
заложником своей географии - но не в
геополитическом смысле. Три
бремени, говорит Иван Ильин, лежали
на России: бремя земли,
разбегающегося пространства; бремя
природы - океан суши, оторванной от
вольного моря, "гладь повсюдная,
безгорная"; и бремя народности - в
смысле многообразия этносов, рас,
религий (4). Необъятность,
гетерогенность, неподъемность
этого пространства призывала не к
практическому (по сути
невозможному), а к символическому
его освоению. Прирастание России
было актом не экономическим,
стратегическим или метафизическим,
а пространственно-символическим,
знаковым.
![]() В этом контексте
в семиотике Российской империи уже
намечен кризис репрезентации.
Какой-то привкус картона остается
от потемкинских фасадов (и лестниц),
словно от декораций "Приглашения
на казнь". Насколько
репрезентативны такие знаки, как
"Россия" и "империя"? (5)
Представляют ли они
сколь-либо ощутимую политическую,
хозяйственную, этническую
целостность - или скорее симулируют
оную, по сути являясь лишь
функциями других знаков, словами,
которые надо было написать на
пустом пространстве карты?
"Российская империя",
"государство российское" - а
была ли Россия империей, был ли этот
невменяемый
пространственно-семантический
конгломерат "российским"?
Названия проговариваются
автоматически:
великий-могучий-русский-язык,
единый-могучий-советский-союз, и в
результате подобной инкантации
слова становятся
взаимодополняющими: российская
значит империя, государство значит
российское, советское значит
шампанское.
В этом контексте
в семиотике Российской империи уже
намечен кризис репрезентации.
Какой-то привкус картона остается
от потемкинских фасадов (и лестниц),
словно от декораций "Приглашения
на казнь". Насколько
репрезентативны такие знаки, как
"Россия" и "империя"? (5)
Представляют ли они
сколь-либо ощутимую политическую,
хозяйственную, этническую
целостность - или скорее симулируют
оную, по сути являясь лишь
функциями других знаков, словами,
которые надо было написать на
пустом пространстве карты?
"Российская империя",
"государство российское" - а
была ли Россия империей, был ли этот
невменяемый
пространственно-семантический
конгломерат "российским"?
Названия проговариваются
автоматически:
великий-могучий-русский-язык,
единый-могучий-советский-союз, и в
результате подобной инкантации
слова становятся
взаимодополняющими: российская
значит империя, государство значит
российское, советское значит
шампанское.
![]() Иными словами,
для семиотического пространства
России была изначально свойственна
нереферентная знаковость, принцип
символического обмена
("православие-самодержавие-народность"),
принцип симуляции. Соответственно
создавались предпосылки для
формирования особого языкового
состояния общества, основанного не
на рациональной референциальности,
но на все более проникающей роли
символов и кодов. Сопротивляемость
культурного организма симуляции
была ничтожной. Всякий более или
менее связный дискурс (тем более
претендующий на целостность) имел
шансы на успех - и на власть, что
вполне подтверждает история
идейных течений в России конца XIX -
начала XX вв.
Иными словами,
для семиотического пространства
России была изначально свойственна
нереферентная знаковость, принцип
символического обмена
("православие-самодержавие-народность"),
принцип симуляции. Соответственно
создавались предпосылки для
формирования особого языкового
состояния общества, основанного не
на рациональной референциальности,
но на все более проникающей роли
символов и кодов. Сопротивляемость
культурного организма симуляции
была ничтожной. Всякий более или
менее связный дискурс (тем более
претендующий на целостность) имел
шансы на успех - и на власть, что
вполне подтверждает история
идейных течений в России конца XIX -
начала XX вв.
![]() 20-е: деконструкция
реальности
20-е: деконструкция
реальности
![]() Ибо язык - это
власть. Если точнее, то власть
записана в языке, хотя это может
быть и не так очевидно. "Власть,
заключенная в языке, незаметна, ибо
от нас ускользает то
обстоятельство, что всякий язык
классифицирует, а классификация -
это тирания" (6). При наличии
же политической воли язык
становится дискурсом власти.
Ибо язык - это
власть. Если точнее, то власть
записана в языке, хотя это может
быть и не так очевидно. "Власть,
заключенная в языке, незаметна, ибо
от нас ускользает то
обстоятельство, что всякий язык
классифицирует, а классификация -
это тирания" (6). При наличии
же политической воли язык
становится дискурсом власти.
![]() Эта проблема
была исследована Роланом Бартом на
примере политической роли языка в
западном обществе. Так, в конце XVII в.
некие абстрактные нормы языка (из
сферы судопроизводства,
религиозного и светского
красноречия, придворного этикета),
далеко не являющиеся
общеупотребительными, авторитарно
объявляются всеобщим достоянием.
Это был глубоко политический акт. В
пространстве языка как риторически
законченной системы возникает
фигура носителя истины правильной
речи, которая становится
политической истиной.
"Политический авторитаризм,
догматическая власть Разума и
единство классического языка - вот
три проявления одной и той же
исторической силы" (7).
Локальный язык становится
средством политического
доминирования, дискурсом власти.
Эта проблема
была исследована Роланом Бартом на
примере политической роли языка в
западном обществе. Так, в конце XVII в.
некие абстрактные нормы языка (из
сферы судопроизводства,
религиозного и светского
красноречия, придворного этикета),
далеко не являющиеся
общеупотребительными, авторитарно
объявляются всеобщим достоянием.
Это был глубоко политический акт. В
пространстве языка как риторически
законченной системы возникает
фигура носителя истины правильной
речи, которая становится
политической истиной.
"Политический авторитаризм,
догматическая власть Разума и
единство классического языка - вот
три проявления одной и той же
исторической силы" (7).
Локальный язык становится
средством политического
доминирования, дискурсом власти.
![]() Нечто подобное
происходит в революционной России.
Политическая роль языка
многократно возрастает, порождая
новую догматику речи. С
семиотической точки зрения
революция в России была не чем иным,
как вбросом (или навязыванием)
некоего эзотерического,
самодостаточного языка в аморфное,
плохо структурированное
семиотическое пространство.
(Добавим - уже отчасти
подготовленное к симуляции,
размеченное верстовыми столбами
незначащих знаков; дискурс власти
приходит на готовое.) Так
закладываются основы господства
советского дискурса.
Нечто подобное
происходит в революционной России.
Политическая роль языка
многократно возрастает, порождая
новую догматику речи. С
семиотической точки зрения
революция в России была не чем иным,
как вбросом (или навязыванием)
некоего эзотерического,
самодостаточного языка в аморфное,
плохо структурированное
семиотическое пространство.
(Добавим - уже отчасти
подготовленное к симуляции,
размеченное верстовыми столбами
незначащих знаков; дискурс власти
приходит на готовое.) Так
закладываются основы господства
советского дискурса.
![]() Утверждение
дискурса власти (советского
новояза), осуществляющееся в
послереволюционное десятилетие,
зарегистрировано художественными
текстами того времени. В них
происходит мучительная смена
языка, поиск новых магических
формул-знаков, позволяющих
приобщиться власти. Слова на глазах
теряют привычное значение,
становятся метками социальной (т.е.,
в сущности, властной)
принадлежности. Герои Ремизова
("Взвихренная Русь"), Артема
Веселого, Зощенко, Андрея
Платонова, Бабеля, Пильняка не
столько называют вещи, сколько
пытаются определить свой статус по
отношению к ним - и к власти. В
платоновском "Чевенгуре"
председатель ревкома Чепурный
обладает лишь смутным, безъязыким
"революционным чутьем", а его
секретарь Прокофий Дванов "умеет
формулировать", и это умение дает
ему - единственному - рычаги власти.
Утверждение
дискурса власти (советского
новояза), осуществляющееся в
послереволюционное десятилетие,
зарегистрировано художественными
текстами того времени. В них
происходит мучительная смена
языка, поиск новых магических
формул-знаков, позволяющих
приобщиться власти. Слова на глазах
теряют привычное значение,
становятся метками социальной (т.е.,
в сущности, властной)
принадлежности. Герои Ремизова
("Взвихренная Русь"), Артема
Веселого, Зощенко, Андрея
Платонова, Бабеля, Пильняка не
столько называют вещи, сколько
пытаются определить свой статус по
отношению к ним - и к власти. В
платоновском "Чевенгуре"
председатель ревкома Чепурный
обладает лишь смутным, безъязыким
"революционным чутьем", а его
секретарь Прокофий Дванов "умеет
формулировать", и это умение дает
ему - единственному - рычаги власти.
![]() Утрата знаками
репрезентативной функции во имя
властных целей также видна из
повального увлечения
аббревиатурами. Это не игра, а
сознательное стремление спрятать
ослиные уши реальности под
громоздкостью, непонятностью и
даже нарочитой неблагозвучностью
(ЦеКУБУ, ВУФКУ, ВХУТЕИН)
аббревиатур. Чем непонятнее, тем
ближе к власти. Знание аббревиации -
признак "грамотности"
вообще (а в России уважают
грамотных) и политической
грамотности в частности.
Утрата знаками
репрезентативной функции во имя
властных целей также видна из
повального увлечения
аббревиатурами. Это не игра, а
сознательное стремление спрятать
ослиные уши реальности под
громоздкостью, непонятностью и
даже нарочитой неблагозвучностью
(ЦеКУБУ, ВУФКУ, ВХУТЕИН)
аббревиатур. Чем непонятнее, тем
ближе к власти. Знание аббревиации -
признак "грамотности"
вообще (а в России уважают
грамотных) и политической
грамотности в частности.
![]() Заметим попутно,
что судьба нереферентной
аббревиатуры постигла и само
название СССР. К одуряющей силе
аббревиации добавилась сила
аллитерации,
мистически-троекратного "С". В
результате механического
повторения никто уже не думает, что
каждое из этих "С" означает:
осуществляется символический
обмен даже не между "союзом",
"советом" и "социализмом",
а между этими "С", окончательно
утратившими всякую
репрезентативность (8).
Заметим попутно,
что судьба нереферентной
аббревиатуры постигла и само
название СССР. К одуряющей силе
аббревиации добавилась сила
аллитерации,
мистически-троекратного "С". В
результате механического
повторения никто уже не думает, что
каждое из этих "С" означает:
осуществляется символический
обмен даже не между "союзом",
"советом" и "социализмом",
а между этими "С", окончательно
утратившими всякую
репрезентативность (8).
![]() Победоносное
шествие советской власти по России
осуществлялось прежде всего в
языке, в советском новоязе. Для
нерусскоговорящих народов (в т.ч. в
Восточной Европе в 1940-х) роль этого
новояза стал играть русский язык
вообще. Из средства коммуникации он
превратился в политический
инструмент. Знание русского -
статусная метка и пропуск в
систему; его потребительная
стоимость (изучить русский, чтобы
прочесть Толстого в оригинале)
уступает место меновой стоимости
(язык обменивается на статус,
другой абстрактный
внутрисистемный знак).
Победоносное
шествие советской власти по России
осуществлялось прежде всего в
языке, в советском новоязе. Для
нерусскоговорящих народов (в т.ч. в
Восточной Европе в 1940-х) роль этого
новояза стал играть русский язык
вообще. Из средства коммуникации он
превратился в политический
инструмент. Знание русского -
статусная метка и пропуск в
систему; его потребительная
стоимость (изучить русский, чтобы
прочесть Толстого в оригинале)
уступает место меновой стоимости
(язык обменивается на статус,
другой абстрактный
внутрисистемный знак).
![]() Утверждение
советского дискурса охватывает все
речевые пласты, включая
неписьменные. Речь идет о феномене
мата, приобретении им нового
статуса в советское время. В
русской традиции матерная лексика
употребляется по преимуществу не в
прямом, номинативном своем смысле,
а в метафорических конструкциях
(например, "меня вчера на
парткоме выебли") или в эмотивной
роли междометий и усилительных
частиц. Иными словами,
референциальность ее ослаблена,
мат стремится к незначащим знакам (9).
В этом нельзя не усмотреть сходство
с незначащими знаками советского
дискурса. Символический обмен
идеологического дискурса
отражается в символическом обмене
дискурса матерного (к примеру,
бессмысленность "трехэтажного
мата" напоминает идеологическое
жонглирование официальных речей).
Можно говорить о функциональном
статусе мата как принципиально
неписьменного, нецензурного
практического языка советской
власти (10). Более того, в советское время
в определенных ситуациях мат
становится пропуском в систему
наряду с владением идеологическими
клише. (Скажем, продвижение наверх в
комсомольской иерархии требует
умения пить и владения матом.) Мат -
хороший тон в партийных,
комсомольских, особенно армейских
кругах, признак свойскости и
народности. В этом смысле он
инкорпорирован в дискурс власти.
Утверждение
советского дискурса охватывает все
речевые пласты, включая
неписьменные. Речь идет о феномене
мата, приобретении им нового
статуса в советское время. В
русской традиции матерная лексика
употребляется по преимуществу не в
прямом, номинативном своем смысле,
а в метафорических конструкциях
(например, "меня вчера на
парткоме выебли") или в эмотивной
роли междометий и усилительных
частиц. Иными словами,
референциальность ее ослаблена,
мат стремится к незначащим знакам (9).
В этом нельзя не усмотреть сходство
с незначащими знаками советского
дискурса. Символический обмен
идеологического дискурса
отражается в символическом обмене
дискурса матерного (к примеру,
бессмысленность "трехэтажного
мата" напоминает идеологическое
жонглирование официальных речей).
Можно говорить о функциональном
статусе мата как принципиально
неписьменного, нецензурного
практического языка советской
власти (10). Более того, в советское время
в определенных ситуациях мат
становится пропуском в систему
наряду с владением идеологическими
клише. (Скажем, продвижение наверх в
комсомольской иерархии требует
умения пить и владения матом.) Мат -
хороший тон в партийных,
комсомольских, особенно армейских
кругах, признак свойскости и
народности. В этом смысле он
инкорпорирован в дискурс власти.
![]() Итак,
возникновение текста СССР
происходит как подавление знаками
реальности (которая оказывается
весьма податливой), и вот уже
фиксируются первые случаи чистого
символического обмена,
"короткого замыкания" в рамках
нового текста. От гениальной ленинской тавтологии "всесильно,
потому что верно" и ученического
знакового уравнения "коммунизм =
советы + электричество" рукой
подать до классического
символического обмена у
Маяковского: "Мы говорим Ленин,
подразумеваем - партия, мы говорим
партия, подразумеваем - Ленин".
Подразумевание становится
важнейшим из искусств, возводится в
государственную добродетель, при
помощи которой сфера сакрального
текста неизмеримо расширяется, а
область профанного (реального)
изгоняется за пределы собственно
бытия.
Итак,
возникновение текста СССР
происходит как подавление знаками
реальности (которая оказывается
весьма податливой), и вот уже
фиксируются первые случаи чистого
символического обмена,
"короткого замыкания" в рамках
нового текста. От гениальной ленинской тавтологии "всесильно,
потому что верно" и ученического
знакового уравнения "коммунизм =
советы + электричество" рукой
подать до классического
символического обмена у
Маяковского: "Мы говорим Ленин,
подразумеваем - партия, мы говорим
партия, подразумеваем - Ленин".
Подразумевание становится
важнейшим из искусств, возводится в
государственную добродетель, при
помощи которой сфера сакрального
текста неизмеримо расширяется, а
область профанного (реального)
изгоняется за пределы собственно
бытия.
![]() Власть, по сути,
осуществляет классическую
деконструкцию, описанную Жаком
Деррида. Напомним, что сам термин
был введен Деррида в попытке
перевести на французский язык
Destruktion Хайдеггера и Abbau Фрейда. По
смыслу это понятие близко к
гуссерлевскому эпохе,
феноменологической редукции,
процедуре "заключения в
скобки" эмпирических связей и
всего аппарата философии: субъекта,
личности, структуры, наблюдающего
устройства - т.е. того, что
претендовало предшествовать языку
как дискурсу. Развертывание
самодостаточного дискурса власти в
СССР, тотальное расширение сферы
символического неизбежно
"заключало в скобки" коды
профанного, вело к их
маргинализации. В результате
деконструкции из жизни изгонялось
все внешнее по отношению к тексту,
все недискурсивные предпосылки
языка (термин Делеза и Гваттари) (11). В ретроспективе советская
власть могла бы начертать на своих
знаменах максиму Деррида: "Нет
ничего вне текста".
Власть, по сути,
осуществляет классическую
деконструкцию, описанную Жаком
Деррида. Напомним, что сам термин
был введен Деррида в попытке
перевести на французский язык
Destruktion Хайдеггера и Abbau Фрейда. По
смыслу это понятие близко к
гуссерлевскому эпохе,
феноменологической редукции,
процедуре "заключения в
скобки" эмпирических связей и
всего аппарата философии: субъекта,
личности, структуры, наблюдающего
устройства - т.е. того, что
претендовало предшествовать языку
как дискурсу. Развертывание
самодостаточного дискурса власти в
СССР, тотальное расширение сферы
символического неизбежно
"заключало в скобки" коды
профанного, вело к их
маргинализации. В результате
деконструкции из жизни изгонялось
все внешнее по отношению к тексту,
все недискурсивные предпосылки
языка (термин Делеза и Гваттари) (11). В ретроспективе советская
власть могла бы начертать на своих
знаменах максиму Деррида: "Нет
ничего вне текста".
![]() Ибо текстом
стало - все. СССР как форма
общественной, государственной,
хозяйственной, культурной
организации превращается в
пространство сплошной
текстуальности. В этом контексте
можно говорить о своеобразном
семиотическом детерминизме. Не мы
выросли из каких-то правильных
текстов, а эти тексты проросли нами,
замечает Михаил Рыклин (12).
Ибо текстом
стало - все. СССР как форма
общественной, государственной,
хозяйственной, культурной
организации превращается в
пространство сплошной
текстуальности. В этом контексте
можно говорить о своеобразном
семиотическом детерминизме. Не мы
выросли из каких-то правильных
текстов, а эти тексты проросли нами,
замечает Михаил Рыклин (12).
![]() Реальность,
таким образом, истончается,
ветшает. Появляющиеся в ней прорехи
и разрывы латаются речью,
коллективным сцеплением
высказываний (13).
Коллективизация речи происходит в
низовой русской культуре
значительно раньше
коллективизации сельского
хозяйства (14). Ближайшее
социальное окружение полностью
определяет структуру высказывания изнутри;
коллективизированное слово не
знает одиночества, оно
ориентировано на собеседника,
контекстуально, экспроприировано у
говорящего. Показательно, что
проблемой коллективного субъекта
речи в 20-е годы начинает заниматься
"круг Бахтина". Особое
внимание обращается на
коллективное сцепление
высказываний (15), выдвигается
предположение, что сознание
обосновывает мир скорее по
видимости, на самом деле являясь
функцией коллективного тела
общения. Цепи высказываний типа
"я сознаю потому, что сознает
другой, сознает третий, сознает
четвертый" или "я говорю
потому, что говорит другой, говорит
третий и т.д." могут быть
продолжены до бесконечности, не
внося в ставший гиперреальным мир
фундирующего основания.
Самосознанием, рефлексией, речью
при этом обладает только
бесконечно расширяющееся тело
общения (16). При этом действительность
растворяется в формах общения, в
экспрессивном сцеплении речевых
актов.
Реальность,
таким образом, истончается,
ветшает. Появляющиеся в ней прорехи
и разрывы латаются речью,
коллективным сцеплением
высказываний (13).
Коллективизация речи происходит в
низовой русской культуре
значительно раньше
коллективизации сельского
хозяйства (14). Ближайшее
социальное окружение полностью
определяет структуру высказывания изнутри;
коллективизированное слово не
знает одиночества, оно
ориентировано на собеседника,
контекстуально, экспроприировано у
говорящего. Показательно, что
проблемой коллективного субъекта
речи в 20-е годы начинает заниматься
"круг Бахтина". Особое
внимание обращается на
коллективное сцепление
высказываний (15), выдвигается
предположение, что сознание
обосновывает мир скорее по
видимости, на самом деле являясь
функцией коллективного тела
общения. Цепи высказываний типа
"я сознаю потому, что сознает
другой, сознает третий, сознает
четвертый" или "я говорю
потому, что говорит другой, говорит
третий и т.д." могут быть
продолжены до бесконечности, не
внося в ставший гиперреальным мир
фундирующего основания.
Самосознанием, рефлексией, речью
при этом обладает только
бесконечно расширяющееся тело
общения (16). При этом действительность
растворяется в формах общения, в
экспрессивном сцеплении речевых
актов.
![]() Так в речи
послереволюционного десятилетия, в
советском дискурсе зарождается
новая, коллективная субъектность,
новая социальность: коллективное
тело. (Она достигнет своего акме в
эпоху зрелого сталинизма.) В
традиционном понимании подобная
коллективная телесность может быть
названа бессубъектностью (ибо в
конечном счете коллективный,
деиндивидуализированный субъект -
оксюморон), к которой восходят и
такие позднейшие феномены, как
бессубъектность и
нерефлексивность позднесоветского
("перестройка") и
постсоветского периодов.
Так в речи
послереволюционного десятилетия, в
советском дискурсе зарождается
новая, коллективная субъектность,
новая социальность: коллективное
тело. (Она достигнет своего акме в
эпоху зрелого сталинизма.) В
традиционном понимании подобная
коллективная телесность может быть
названа бессубъектностью (ибо в
конечном счете коллективный,
деиндивидуализированный субъект -
оксюморон), к которой восходят и
такие позднейшие феномены, как
бессубъектность и
нерефлексивность позднесоветского
("перестройка") и
постсоветского периодов.
![]() 30 - 50-е: упразднение
реальности
30 - 50-е: упразднение
реальности
![]() Формирование
коллективной телесности на рубеже
20-х и 30-х знаменует перелом в
семиотической истории СССР. Если
деконструкция еще предполагает
наличие реальности, лишь вынося ее
за скобки (т.е. реальность
нежелательна, но допускается,
подразумевается), то отныне
реальность просто-напросто
отменяется, сметается волной речи,
советского дискурса (17).
Подобная смена знаковых парадигм
отмечена переходом от "красного
террора" и террора 20-х к
"большому террору" 30-х.
Послеоктябрьский террор (не в
узко-чекистском, прикладном смысле,
а как дискурс насилия, дискурс
вообще) был частично референтным,
опирался на принципы и полагал себе
некие пределы. Однако на рубеже 30-х
годов этот террор постигла
катастрофа естественного,
космического террора: на сей раз
без принципа, без субъекта, без
обоснования (18). Отныне
террору не нужны объяснения, он
возникает сам собой, из советского
дискурса, в процессе
символического обмена.
Формирование
коллективной телесности на рубеже
20-х и 30-х знаменует перелом в
семиотической истории СССР. Если
деконструкция еще предполагает
наличие реальности, лишь вынося ее
за скобки (т.е. реальность
нежелательна, но допускается,
подразумевается), то отныне
реальность просто-напросто
отменяется, сметается волной речи,
советского дискурса (17).
Подобная смена знаковых парадигм
отмечена переходом от "красного
террора" и террора 20-х к
"большому террору" 30-х.
Послеоктябрьский террор (не в
узко-чекистском, прикладном смысле,
а как дискурс насилия, дискурс
вообще) был частично референтным,
опирался на принципы и полагал себе
некие пределы. Однако на рубеже 30-х
годов этот террор постигла
катастрофа естественного,
космического террора: на сей раз
без принципа, без субъекта, без
обоснования (18). Отныне
террору не нужны объяснения, он
возникает сам собой, из советского
дискурса, в процессе
символического обмена.
![]() Анекдот:
разговор охранника с заключенным в
лагере. На вопрос о том, за что он
получил срок, заключенный отвечает:
"Ни за что". - "Врешь, сволочь,
- говорит охранник. - Ни за что у нас
10 лет дают, а у тебя 15". В этом
"ни за что" - обоюдное
признание реальности
несуществующей: не только
реальности преступления, но и
реальности вообще. Возьмем другую
жанровую сценку: допрос на Лубянке.
Роли следователя и обвиняемого, в
сущности, идентичны: один пишет,
другой подписывает - оба они
обмениваются незначащими
символами, и в сфере этой чистой,
ничем не замутненной знаковости
рождаются шахтинский,
ленинградский процессы,
Промпартия, "тоннель от Бомбея до
Лондона" и пр.
Анекдот:
разговор охранника с заключенным в
лагере. На вопрос о том, за что он
получил срок, заключенный отвечает:
"Ни за что". - "Врешь, сволочь,
- говорит охранник. - Ни за что у нас
10 лет дают, а у тебя 15". В этом
"ни за что" - обоюдное
признание реальности
несуществующей: не только
реальности преступления, но и
реальности вообще. Возьмем другую
жанровую сценку: допрос на Лубянке.
Роли следователя и обвиняемого, в
сущности, идентичны: один пишет,
другой подписывает - оба они
обмениваются незначащими
символами, и в сфере этой чистой,
ничем не замутненной знаковости
рождаются шахтинский,
ленинградский процессы,
Промпартия, "тоннель от Бомбея до
Лондона" и пр.
![]() Выходя из
области прикладного террора (в
смысле "необоснованных
репрессий", как будто есть
обоснованные), мы наблюдаем те же
модели, репродуцируемые по сей
день, в прочих эпизодах советской
жизни. Вот осмотр больного у врача.
В советском дискурсе "лечить"
часто лишь во вторую очередь значит
соприкасаться с телом больного, а в
первую очередь - вести
документацию, иметь правильную
отчетность и т.п. Акт осмотра
больного возникает в этой зоне
отчетности, а не наоборот: зачастую
болезни существуют, но на бумаге не
фиксируются, так как в соответствии
с местными нормами медицинской
рациональности считаются
несуществующими (19). Здесь
осуществляется тот самый террор,
что и у следователя (и следователь,
и врач пишут): террор знаков, террор
текста.
Выходя из
области прикладного террора (в
смысле "необоснованных
репрессий", как будто есть
обоснованные), мы наблюдаем те же
модели, репродуцируемые по сей
день, в прочих эпизодах советской
жизни. Вот осмотр больного у врача.
В советском дискурсе "лечить"
часто лишь во вторую очередь значит
соприкасаться с телом больного, а в
первую очередь - вести
документацию, иметь правильную
отчетность и т.п. Акт осмотра
больного возникает в этой зоне
отчетности, а не наоборот: зачастую
болезни существуют, но на бумаге не
фиксируются, так как в соответствии
с местными нормами медицинской
рациональности считаются
несуществующими (19). Здесь
осуществляется тот самый террор,
что и у следователя (и следователь,
и врач пишут): террор знаков, террор
текста.
![]() То же у
парикмахера (он стрижет клиента,
исходя не из представлений о моде
или функциональности, а из
нормативных представлений о
социальной приличности, отмечает
волосы знаками статуса и
социальности, т.е. стрижка является
следствием знаковой деятельности),
у портного или при покупке готового
платья. Мандельштамовский
"человек эпохи Москвошвея" -
это человек без свойств,
человек-знак, человек, помеченный
подобно мушке-дрозофиле в
стеклянном ящике. Знаки позволяют
замкнуть народ на себя самое, "на
массу" - или, что то же самое,
удержать народ в рамках
нормативных представлений о
народе, "заточить его в речь" (20).
То же у
парикмахера (он стрижет клиента,
исходя не из представлений о моде
или функциональности, а из
нормативных представлений о
социальной приличности, отмечает
волосы знаками статуса и
социальности, т.е. стрижка является
следствием знаковой деятельности),
у портного или при покупке готового
платья. Мандельштамовский
"человек эпохи Москвошвея" -
это человек без свойств,
человек-знак, человек, помеченный
подобно мушке-дрозофиле в
стеклянном ящике. Знаки позволяют
замкнуть народ на себя самое, "на
массу" - или, что то же самое,
удержать народ в рамках
нормативных представлений о
народе, "заточить его в речь" (20).
![]() Подобное
"заключение в речь" означает,
что народ (масса, коллективное тело)
сам становится главным предметом
репрезентации. Советский террор,
как и советское искусство,
апеллирует к народу, к
коллективному телу, т.е. к
невозможному, несуществующему
референту, ибо масса является
абстрактным понятием, не
поддающимся репрезентации. В своих
символах и образах советские
террор и искусство соотносятся не с
индивидами, даже не с их
скоплениями, а опять-таки со
знаками, с нулевой степенью
значения. Таковы, к примеру,
скульптуры и панно на ВДНХ и
станциях московского метро,
отображающие мыслимую (в сущности,
немыслимую) массу, гипотетические
тела.
Подобное
"заключение в речь" означает,
что народ (масса, коллективное тело)
сам становится главным предметом
репрезентации. Советский террор,
как и советское искусство,
апеллирует к народу, к
коллективному телу, т.е. к
невозможному, несуществующему
референту, ибо масса является
абстрактным понятием, не
поддающимся репрезентации. В своих
символах и образах советские
террор и искусство соотносятся не с
индивидами, даже не с их
скоплениями, а опять-таки со
знаками, с нулевой степенью
значения. Таковы, к примеру,
скульптуры и панно на ВДНХ и
станциях московского метро,
отображающие мыслимую (в сущности,
немыслимую) массу, гипотетические
тела.
![]() Одно из самых
ликующих, нереальных изображений -
мозаичное панно, живописующее
народное гулянье, на станции метро
Киевская-кольцевая. Здесь и Ленин, и
Богдан Хмельницкий, преображенные
лица разных возрастов, народные
костюмы, музыкальные инструменты,
цветы, плоды. Эффект ликования
достигается на этом панно
совершенной деперсонализацией тел,
вознесшихся над принципом
реальности, преодолевших его.
Таковы и лица советских людей на
фотографиях 30 - 40-х годов,
отретушированные так, что кажутся
совершенно гладкими, как бы
преобразованными бесконечным
чувством, которое должно быть
похоронено в них (21). Живые вроде
бы люди, они неотличимы от
картонных героев плакатов по
гражданской обороне и технике
безопасности. Эти лица смотрят на
нас с Досок почета, это те самые
лица, что видит в вагоне электрички
герой поэмы "Москва-Петушки"
Венедикта Ерофеева:
Одно из самых
ликующих, нереальных изображений -
мозаичное панно, живописующее
народное гулянье, на станции метро
Киевская-кольцевая. Здесь и Ленин, и
Богдан Хмельницкий, преображенные
лица разных возрастов, народные
костюмы, музыкальные инструменты,
цветы, плоды. Эффект ликования
достигается на этом панно
совершенной деперсонализацией тел,
вознесшихся над принципом
реальности, преодолевших его.
Таковы и лица советских людей на
фотографиях 30 - 40-х годов,
отретушированные так, что кажутся
совершенно гладкими, как бы
преобразованными бесконечным
чувством, которое должно быть
похоронено в них (21). Живые вроде
бы люди, они неотличимы от
картонных героев плакатов по
гражданской обороне и технике
безопасности. Эти лица смотрят на
нас с Досок почета, это те самые
лица, что видит в вагоне электрички
герой поэмы "Москва-Петушки"
Венедикта Ерофеева:
![]() Проблема
деперсонализованных лиц,
бессубъектного коллективного тела,
соотносящегося лишь с самим собой,
обменивающегося значением внутри
самого себя, была позже
переосмыслена в
"Фундаментальном лексиконе"
Г.Брускина, уже ставшем классикой
соц-арта (23).
Проблема
деперсонализованных лиц,
бессубъектного коллективного тела,
соотносящегося лишь с самим собой,
обменивающегося значением внутри
самого себя, была позже
переосмыслена в
"Фундаментальном лексиконе"
Г.Брускина, уже ставшем классикой
соц-арта (23).
![]() Приведенные выше
примеры - попытки отобразить (или
осмыслить) коллективное тело. Но
масса (тем более номадическая масса
типа "советский народ")
принципиально несводима к
визуальному образу, который
является ее стазисом, не может быть
запечатлена фотозрением.
Коллективное тело творится и
существует исключительно в речи, в
коллективном сцеплении
высказываний, воспроизводится в
речевых актах, которые служат
ячейками, кодами, матрицами, и
соответственно может быть
охарактеризовано прежде всего
через речь. Какова эта новая речь,
сложившаяся в 30 - 50-е годы?
Приведенные выше
примеры - попытки отобразить (или
осмыслить) коллективное тело. Но
масса (тем более номадическая масса
типа "советский народ")
принципиально несводима к
визуальному образу, который
является ее стазисом, не может быть
запечатлена фотозрением.
Коллективное тело творится и
существует исключительно в речи, в
коллективном сцеплении
высказываний, воспроизводится в
речевых актах, которые служат
ячейками, кодами, матрицами, и
соответственно может быть
охарактеризовано прежде всего
через речь. Какова эта новая речь,
сложившаяся в 30 - 50-е годы?
![]() Во-первых, это речь
принципиально безавторская, что
запечатлено в
сакраментально-безличном "есть
мнение". Это не "смерть
автора", о которой говорит Барт в
связи с бальзаковскими текстами,
смерть от перенапряжения в письме (24). Здесь другое: растворение
автора в тотальном тексте, которым
стала коллективная социальность,
отмена самой концепции авторства: в
тексте записана невозможность
индивидуального автора родиться.
Перед нами не палимпсест, а пустыня
(пустыня самой реальности,
возвращаясь к метафоре
Борхеса-Бодрийара), не стирание
имени автора с пергамента, а
сплошная текстуальность до текста,
до произведения, до безавторства и
до авторства одновременно.
"Текстуальность в рамках
коллективной идентичности не знает
как соблазна субъекта, так и
соблазна его стирания". (25) (Следствием этой
тотальной внеавторской речи стал
специфический безавторский канон в
советской литературе и искусстве,
преждевременно и решительно
заявленный Маяковским (26):
согласно этому канону, писатель
(художник, композитор) не творит
текст (ибо авторское право давно и
безоговорочно присвоено
коллективной телесностью), а ищет
социального оправдания уже
случившемуся тексту; писательство
сводится к искусству стенографии.
Для того же Маяковского поэт - лишь
"подмастерье" у
"народа-языкотворца".
Во-первых, это речь
принципиально безавторская, что
запечатлено в
сакраментально-безличном "есть
мнение". Это не "смерть
автора", о которой говорит Барт в
связи с бальзаковскими текстами,
смерть от перенапряжения в письме (24). Здесь другое: растворение
автора в тотальном тексте, которым
стала коллективная социальность,
отмена самой концепции авторства: в
тексте записана невозможность
индивидуального автора родиться.
Перед нами не палимпсест, а пустыня
(пустыня самой реальности,
возвращаясь к метафоре
Борхеса-Бодрийара), не стирание
имени автора с пергамента, а
сплошная текстуальность до текста,
до произведения, до безавторства и
до авторства одновременно.
"Текстуальность в рамках
коллективной идентичности не знает
как соблазна субъекта, так и
соблазна его стирания". (25) (Следствием этой
тотальной внеавторской речи стал
специфический безавторский канон в
советской литературе и искусстве,
преждевременно и решительно
заявленный Маяковским (26):
согласно этому канону, писатель
(художник, композитор) не творит
текст (ибо авторское право давно и
безоговорочно присвоено
коллективной телесностью), а ищет
социального оправдания уже
случившемуся тексту; писательство
сводится к искусству стенографии.
Для того же Маяковского поэт - лишь
"подмастерье" у
"народа-языкотворца".
![]() Во-вторых, это речь
принудительная. Именно в данный
период в советской речевой
практике проступает то, что Барт
назвал "фашистской природой
языка": язык "не является ни
реакционным, ни прогрессивным, он
является, попросту говоря,
фашистским, ибо фашизм состоит не в
том, чтобы мешать говорить, а в том,
чтобы говорить заставлять" (27). Авторитарный дискурс власти
отражен в насильственных речевых
актах. Одной из высших речевых
практик становится донос:
концентрированный речевой акт,
вырастающий до символа,
ритуального жеста. В эстетике
доноса мы видим триумф речевого
"фашизма", бессубъектности и
особой советской рефлексии (по
сути, антирефлексии). Даже
подписанный, донос остается
анонимным - его пишет не конкретное
лицо, а коллективное тело. То же и с
анонимкой: не в том дело, что аноним
боится разоблачения, а в том, что он
не может вычленить свою
индивидуальность в несущем его
речевом потоке, одной из форм
которого является донос.
Во-вторых, это речь
принудительная. Именно в данный
период в советской речевой
практике проступает то, что Барт
назвал "фашистской природой
языка": язык "не является ни
реакционным, ни прогрессивным, он
является, попросту говоря,
фашистским, ибо фашизм состоит не в
том, чтобы мешать говорить, а в том,
чтобы говорить заставлять" (27). Авторитарный дискурс власти
отражен в насильственных речевых
актах. Одной из высших речевых
практик становится донос:
концентрированный речевой акт,
вырастающий до символа,
ритуального жеста. В эстетике
доноса мы видим триумф речевого
"фашизма", бессубъектности и
особой советской рефлексии (по
сути, антирефлексии). Даже
подписанный, донос остается
анонимным - его пишет не конкретное
лицо, а коллективное тело. То же и с
анонимкой: не в том дело, что аноним
боится разоблачения, а в том, что он
не может вычленить свою
индивидуальность в несущем его
речевом потоке, одной из форм
которого является донос.
![]() И наконец,
кульминация бессубъектной,
"фашистской" речи - самодонос,
в котором актант экстатически
приносит себя в жертву
коллективной телесности, тексту.
Ритуальная жертва наподобие тех,
что практикуются в первобытных
обществах и сектах.
И наконец,
кульминация бессубъектной,
"фашистской" речи - самодонос,
в котором актант экстатически
приносит себя в жертву
коллективной телесности, тексту.
Ритуальная жертва наподобие тех,
что практикуются в первобытных
обществах и сектах.
![]() Отсутствие
индивидуального авторства и
принудительность вы-сказывания
неизбежно приводят к тотальному
авторству, "творческой
функции" коллективного тела, к
ситуации "народа-языкотворца".
Текст СССР (террористический
дискурс), замкнутый и эндогенный,
творит из себя самого, является
демиургом, действующим во имя
символической эффективности
(семиургия). Сталинский террор -
"квазихудожественный акт",
патетичный до конца: в то время как
обычное искусство лишь имитирует
патетику демиурга, крайняя форма
насилия демиургична сама по себе (28). Эстетика, изгнанная из СССР
через дверь (по большому счету
искусство в СССР невозможно,
упразднено как внедискурсивная
форма), возвращается через окно в
виде подавляющей, тотальной
художественности.
Отсутствие
индивидуального авторства и
принудительность вы-сказывания
неизбежно приводят к тотальному
авторству, "творческой
функции" коллективного тела, к
ситуации "народа-языкотворца".
Текст СССР (террористический
дискурс), замкнутый и эндогенный,
творит из себя самого, является
демиургом, действующим во имя
символической эффективности
(семиургия). Сталинский террор -
"квазихудожественный акт",
патетичный до конца: в то время как
обычное искусство лишь имитирует
патетику демиурга, крайняя форма
насилия демиургична сама по себе (28). Эстетика, изгнанная из СССР
через дверь (по большому счету
искусство в СССР невозможно,
упразднено как внедискурсивная
форма), возвращается через окно в
виде подавляющей, тотальной
художественности.
![]() Сплошь
эстетичный (если понимать эстетику
не как каллистику, науку о
прекрасном, а шире) текст СССР можно
интерпретировать с помощью
концепции тотального речевого
авторства Бахтина, полагавшего, что
всякий говорящий есть творец, и
фактически стиравшего границу
между текстом и речью, эстетическим
и неэстетическим (29). С другой
стороны, текст СССР
интерпретируется в терминах
формализма того периода, теорий
ОПОЯЗа: форма СССР становится его
единственным содержанием, СССР
превращается в пространство чистой
формы. Нет ничего вне текста - и вне
художественного акта, в знаковом
пространстве СССР все акты
принципиально эстетичны.
Перефразируя Флоренского,
советское действо - это синтез
искусств.
Сплошь
эстетичный (если понимать эстетику
не как каллистику, науку о
прекрасном, а шире) текст СССР можно
интерпретировать с помощью
концепции тотального речевого
авторства Бахтина, полагавшего, что
всякий говорящий есть творец, и
фактически стиравшего границу
между текстом и речью, эстетическим
и неэстетическим (29). С другой
стороны, текст СССР
интерпретируется в терминах
формализма того периода, теорий
ОПОЯЗа: форма СССР становится его
единственным содержанием, СССР
превращается в пространство чистой
формы. Нет ничего вне текста - и вне
художественного акта, в знаковом
пространстве СССР все акты
принципиально эстетичны.
Перефразируя Флоренского,
советское действо - это синтез
искусств.
![]() В самом деле,
уместно сравнение развитого
советского дискурса 30 - 50-х гг. с
непрекращающейся литургией. Текст
имеет постоянно поддерживаемое
литургическое звучание, народ в нем
как бы постоянно правит мессу своей
благостности, праведности и
непогрешимости (30). В этой
сакральной атмосфере, где хлеб и
вода пресуществляются в плоть и
кровь, знаки становятся
окончательными ценностями,
существующими лишь в связи с их
богослужебной функцией.
В самом деле,
уместно сравнение развитого
советского дискурса 30 - 50-х гг. с
непрекращающейся литургией. Текст
имеет постоянно поддерживаемое
литургическое звучание, народ в нем
как бы постоянно правит мессу своей
благостности, праведности и
непогрешимости (30). В этой
сакральной атмосфере, где хлеб и
вода пресуществляются в плоть и
кровь, знаки становятся
окончательными ценностями,
существующими лишь в связи с их
богослужебной функцией.
![]() Подобная
тоталитарная литургия на советском
новоязе в каком-то смысле наследует
православной традиции
богослужения на
церковно-славянском, языке
церковного дискурса власти. В
отличие от латыни, которая стала
языком церкви, уже будучи языком
культуры, церковно-славянский
возникает и функционирует
исключительно как язык литургии (31). Коммуникация на
церковнославянском практически
невозможна (утеря знаком
коммуникативных свойств - один из
первых признаков симуляции), это
язык истины и Откровения, язык
власти (32). В тотальной советской
литургии также употребляется
специфический богослужебный язык,
малопригодный для нужд
коммуникации (тотальное общение не
есть коммуникация), язык не
референтных знаков, но кодов
наподобие сигналов светофора, язык
истины, не признающей
интерпретаций.
Подобная
тоталитарная литургия на советском
новоязе в каком-то смысле наследует
православной традиции
богослужения на
церковно-славянском, языке
церковного дискурса власти. В
отличие от латыни, которая стала
языком церкви, уже будучи языком
культуры, церковно-славянский
возникает и функционирует
исключительно как язык литургии (31). Коммуникация на
церковнославянском практически
невозможна (утеря знаком
коммуникативных свойств - один из
первых признаков симуляции), это
язык истины и Откровения, язык
власти (32). В тотальной советской
литургии также употребляется
специфический богослужебный язык,
малопригодный для нужд
коммуникации (тотальное общение не
есть коммуникация), язык не
референтных знаков, но кодов
наподобие сигналов светофора, язык
истины, не признающей
интерпретаций.
![]() Фетишизация
формы, тотальная эстетизация
реальности становится
определяющей чертой советского
бытия, унаследованной от СССР
современной Россией. "Сталинская
литургия" - предшественница
"тотальной ВДНХ" эпохи
развитого социализма и
современного российского
"общества спектакля" (см. ниже).
Фетишизация
формы, тотальная эстетизация
реальности становится
определяющей чертой советского
бытия, унаследованной от СССР
современной Россией. "Сталинская
литургия" - предшественница
"тотальной ВДНХ" эпохи
развитого социализма и
современного российского
"общества спектакля" (см. ниже).
![]() Сплошная
текстуальность (эстетичность,
литургичность) как экстатическая
форма социальности означает, что
вне речи, вне коллективного тела
нет ничего. Реальность,
первоначально лишь вытесненная,
"заключенная в скобки" (эпохе),
в 30 - 50-е была авторитарно
упразднена. Триумф коллективной
телесности означал появление
самодостаточного народа,
самодостаточного террора,
самодостаточного текста. Эти годы
стали периодом утверждения
полностью "речевого" канона
социализма, когда реальный
социализм обернулся радикальным
имманентизмом (33). Утопия
(согласно одной из этимологических
версий, слово произведено не от u
topos, а от eu topos, благословенное место)
превращается в атопию: можно
говорить о принципиальной
атопичности текста СССР.
Сплошная
текстуальность (эстетичность,
литургичность) как экстатическая
форма социальности означает, что
вне речи, вне коллективного тела
нет ничего. Реальность,
первоначально лишь вытесненная,
"заключенная в скобки" (эпохе),
в 30 - 50-е была авторитарно
упразднена. Триумф коллективной
телесности означал появление
самодостаточного народа,
самодостаточного террора,
самодостаточного текста. Эти годы
стали периодом утверждения
полностью "речевого" канона
социализма, когда реальный
социализм обернулся радикальным
имманентизмом (33). Утопия
(согласно одной из этимологических
версий, слово произведено не от u
topos, а от eu topos, благословенное место)
превращается в атопию: можно
говорить о принципиальной
атопичности текста СССР.
![]() 60 - 80-е: симуляция
реальности
60 - 80-е: симуляция
реальности
![]() Уничтожение
реальности знаками состоялось, и
свидетельствует об этом не столько
сама эпоха большого террора,
сколько последующие поколения:
неустойчивые, шаткие,
"прозрачные" (в набоковском
смысле). В конце 50-х, когда была
предпринята первая робкая попытка
перевести идеологический дискурс
на язык здравого смысла,
осуществить периферийную
нормализаторскую стратегию, стало
вдруг очевидно, что реальности как
таковой не существует. Зажегся
слабый свет, и человек увидел, что
он один в пустом, бесконечном
объеме, в пространстве симуляции.
(Лучше погасить свет.) Так в конце
50-х происходит смена симуляционных
парадигм: от знаков, симулирующих
что-либо (уже с начала 50-х их явно
недостаточно для легитимации: ср.
провалившееся "дело врачей"), к
знакам, скрывающим, что ничего нет.
Из знака, насильственно
упраздняющего реальность, СССР
превратился в знак, стыдливо
прикрывающий отсутствие
реальности. 60 - 80-е - эпоха
классической симуляции (34).
Уничтожение
реальности знаками состоялось, и
свидетельствует об этом не столько
сама эпоха большого террора,
сколько последующие поколения:
неустойчивые, шаткие,
"прозрачные" (в набоковском
смысле). В конце 50-х, когда была
предпринята первая робкая попытка
перевести идеологический дискурс
на язык здравого смысла,
осуществить периферийную
нормализаторскую стратегию, стало
вдруг очевидно, что реальности как
таковой не существует. Зажегся
слабый свет, и человек увидел, что
он один в пустом, бесконечном
объеме, в пространстве симуляции.
(Лучше погасить свет.) Так в конце
50-х происходит смена симуляционных
парадигм: от знаков, симулирующих
что-либо (уже с начала 50-х их явно
недостаточно для легитимации: ср.
провалившееся "дело врачей"), к
знакам, скрывающим, что ничего нет.
Из знака, насильственно
упраздняющего реальность, СССР
превратился в знак, стыдливо
прикрывающий отсутствие
реальности. 60 - 80-е - эпоха
классической симуляции (34).
![]() Бодрийар (как
всегда, падкий на красоту слога)
называет такую смену парадигм
переходом от "теологии истины и
тайны" к "симуляции, в которой
больше нет бога" (35).
Действительно, на конец 50-х
приходится смерть советского бога:
смерть бога в смысле
десакрализации дискурса власти,
десакрализации текста СССР. До его
секуляризации еще далеко, сферы
сакрального и профанного
по-прежнему разведены, и секулярные
коды остаются за пределами текста,
однако практическим результатом
стало исчезновение
знаков-индульгенций,
знаков-гарантий, знаков-опор.
Знаковый террор продолжается (это
принципиальная характеристика
советского дискурса, имеющая лишь
косвенное отношение к
государственной политике террора),
но из тотального он становится
релятивным. Здесь еще одно сходство
советского дискурса с судьбой
исторических церквей: со смертью
бога возникает религия-симулякр.
Бодрийар (как
всегда, падкий на красоту слога)
называет такую смену парадигм
переходом от "теологии истины и
тайны" к "симуляции, в которой
больше нет бога" (35).
Действительно, на конец 50-х
приходится смерть советского бога:
смерть бога в смысле
десакрализации дискурса власти,
десакрализации текста СССР. До его
секуляризации еще далеко, сферы
сакрального и профанного
по-прежнему разведены, и секулярные
коды остаются за пределами текста,
однако практическим результатом
стало исчезновение
знаков-индульгенций,
знаков-гарантий, знаков-опор.
Знаковый террор продолжается (это
принципиальная характеристика
советского дискурса, имеющая лишь
косвенное отношение к
государственной политике террора),
но из тотального он становится
релятивным. Здесь еще одно сходство
советского дискурса с судьбой
исторических церквей: со смертью
бога возникает религия-симулякр.
![]() Идея формы в
эпоху развитой симуляции
эволюционирует в сторону этикета;
эстетика и этика растворяются в
искусстве тотального этикета.
Евреи и китайцы разработали
жесткие правила на все случаи
жизни; в Мишне мы читаем, что в
субботу после наступления сумерек
портной не должен выходить на улицу
с иглой; в Книге обрядов говорится,
что гость первый бокал должен пить
с серьезным видом, а второй - с
почтительным и счастливым.
Подобная кодификация слова и жеста
возобладала и в тексте СССР,
который превратился в пространство
тотального знакового этикета (в
этой связи можно говорить о
стилистике советского текста,
понятой как нужное слово в нужном
месте).
Идея формы в
эпоху развитой симуляции
эволюционирует в сторону этикета;
эстетика и этика растворяются в
искусстве тотального этикета.
Евреи и китайцы разработали
жесткие правила на все случаи
жизни; в Мишне мы читаем, что в
субботу после наступления сумерек
портной не должен выходить на улицу
с иглой; в Книге обрядов говорится,
что гость первый бокал должен пить
с серьезным видом, а второй - с
почтительным и счастливым.
Подобная кодификация слова и жеста
возобладала и в тексте СССР,
который превратился в пространство
тотального знакового этикета (в
этой связи можно говорить о
стилистике советского текста,
понятой как нужное слово в нужном
месте).
![]() В этой новой
стилистике к императиву
принудительного высказывания
добавляется фигура умолчания.
Эллипсис используется не в своей
основной функции динамизации и
компрессии речи, но по преимуществу
для сокрытия смысла, устранения
референциальности (36). При
отсутствии информации (руководящих
указаний) человек действует,
подобно компьютеру, "по
умолчанию" (on default), т.е. согласно
программе (этикету). Проблема
симуляции, умолчания, речевого
зрения вполне описывается моделью
"новое платье короля" из
сказки Андерсена.
В этой новой
стилистике к императиву
принудительного высказывания
добавляется фигура умолчания.
Эллипсис используется не в своей
основной функции динамизации и
компрессии речи, но по преимуществу
для сокрытия смысла, устранения
референциальности (36). При
отсутствии информации (руководящих
указаний) человек действует,
подобно компьютеру, "по
умолчанию" (on default), т.е. согласно
программе (этикету). Проблема
симуляции, умолчания, речевого
зрения вполне описывается моделью
"новое платье короля" из
сказки Андерсена.
![]() Ключевым словом
эпохи становится "нормально":
слово-символ, синоним советскости.
На вопрос, как дела, советский
человек отвечает "нормально";
степень симулятивности этого
ответа гораздо выше, чем, скажем, в речевой
практике Запада, где в подобной
ситуации отвечают "хорошо". В
обоих случаях собеседники
обмениваются незначащими знаками,
но "хорошо" лишь искажает
реальность, тогда как
"нормаль-но" уничтожает сам
принцип реальности. Сверх того,
"нормальный" -
общеупотребительный эпитет
(нормальная квартира, нормальная
работа, нормальная баба, нормальный
прикол), за которым стоит
минимальная информативность, почти
нулевая степень значения (37). "Нормально" -
знак-симулякр, прикрывающий
отсутствие реальности;
"нормально" равносильно
молчанию (38).
Ключевым словом
эпохи становится "нормально":
слово-символ, синоним советскости.
На вопрос, как дела, советский
человек отвечает "нормально";
степень симулятивности этого
ответа гораздо выше, чем, скажем, в речевой
практике Запада, где в подобной
ситуации отвечают "хорошо". В
обоих случаях собеседники
обмениваются незначащими знаками,
но "хорошо" лишь искажает
реальность, тогда как
"нормаль-но" уничтожает сам
принцип реальности. Сверх того,
"нормальный" -
общеупотребительный эпитет
(нормальная квартира, нормальная
работа, нормальная баба, нормальный
прикол), за которым стоит
минимальная информативность, почти
нулевая степень значения (37). "Нормально" -
знак-симулякр, прикрывающий
отсутствие реальности;
"нормально" равносильно
молчанию (38).
![]() По логике
советского дискурса умолчание о
реальности сочетается с
экспонированием гиперреальности
(или даже компенсируется таковым). 60
- 80-е - это "эпоха юбилеев",
время экспонирования. Храм
превращается в музей; вещи, бывшие
иконами и принадлежностями
богослужения в тотальной советской
литургии, в процессе
десакрализации превращаются в
экспонаты на тотальной выставке.
Симуляция осуществляется как
экспонирование несуществующей
реальности, советское пространство
от Москвы до самых до окраин
предстает как сплошная ВДНХ,
действующий макет реальности. Или -
ВДНХ реальнее, чем окружающая ее
страна; люди идут на выставку за
глотком реальности и возвращаются
обратно в свое фантомное бытие.
По логике
советского дискурса умолчание о
реальности сочетается с
экспонированием гиперреальности
(или даже компенсируется таковым). 60
- 80-е - это "эпоха юбилеев",
время экспонирования. Храм
превращается в музей; вещи, бывшие
иконами и принадлежностями
богослужения в тотальной советской
литургии, в процессе
десакрализации превращаются в
экспонаты на тотальной выставке.
Симуляция осуществляется как
экспонирование несуществующей
реальности, советское пространство
от Москвы до самых до окраин
предстает как сплошная ВДНХ,
действующий макет реальности. Или -
ВДНХ реальнее, чем окружающая ее
страна; люди идут на выставку за
глотком реальности и возвращаются
обратно в свое фантомное бытие.
![]() К примеру, в
павильоне "Птицеводство" на
ВДНХ были выставлены макеты ферм,
помещенных в буколический пейзаж, с
подписями типа "Проект
птицефабрики #6 Холмогорского
района Костромской области". Там
же красовалась гипотетическая
продукция птицефабрики: пирамиды
консервных банок с этикетками
вроде "Петух в вине" или
"Мусс из утиной печенки". Никто
никогда не видел этих деликатесов
на прилавках, под прилавками и даже
в заказах; это "чистые эйдосы
пищи", потребляемые через слово (39). То же справедливо в отношении
знаменитой "микояновской"
"Книги о вкусной и здоровой
пище", питавшей образом и словом
два поколения советских людей, или
мифов о московском и ленинградском
Елисеевских гастрономах, в которых
"при Сталине все было". Но
самый, пожалуй, универсальный
пример - это знак "колбаса",
один из ключевых в тексте СССР.
Практически несуществующая для
большей части населения, колбаса
становится важной ценностью в
советском символическом обмене (40), сохраняющей свое значение и
по сей день (ср. ностальгию по
"колбасе за 2.20" в дискурсе
оппозиции).
К примеру, в
павильоне "Птицеводство" на
ВДНХ были выставлены макеты ферм,
помещенных в буколический пейзаж, с
подписями типа "Проект
птицефабрики #6 Холмогорского
района Костромской области". Там
же красовалась гипотетическая
продукция птицефабрики: пирамиды
консервных банок с этикетками
вроде "Петух в вине" или
"Мусс из утиной печенки". Никто
никогда не видел этих деликатесов
на прилавках, под прилавками и даже
в заказах; это "чистые эйдосы
пищи", потребляемые через слово (39). То же справедливо в отношении
знаменитой "микояновской"
"Книги о вкусной и здоровой
пище", питавшей образом и словом
два поколения советских людей, или
мифов о московском и ленинградском
Елисеевских гастрономах, в которых
"при Сталине все было". Но
самый, пожалуй, универсальный
пример - это знак "колбаса",
один из ключевых в тексте СССР.
Практически несуществующая для
большей части населения, колбаса
становится важной ценностью в
советском символическом обмене (40), сохраняющей свое значение и
по сей день (ср. ностальгию по
"колбасе за 2.20" в дискурсе
оппозиции).
![]() Стремление к
экспонированию реальности в эпоху
развитой симуляции приводит к
расширению особого рода публичных
пространств, таких, как кинотеатры,
"киноконцертные залы"
(новшество этого периода), дворцы
культуры. Кремлевский дворец
съездов, зал "Россия",
кинотеатры "Октябрь" и
"Новороссийск" в Москве -
культовые сооружения эпохи.
Советское пространство размечено
этими центрами экспонирования;
через них оно постоянно готово
сфокусироваться, отобразиться,
обернуться партсобранием,
заседанием, митингом, лекцией,
кинофильмом с непременным довеском
"Новостей дня". Симуляция
постсоветского периода продолжает
использовать этот потенциал
экспонирования: как выясняется,
любой совхозный дом культуры может
стать местом очередного съезда
КПСС, так же как любой московский
кинотеатр - ареной политических
конвенций. Сама же ВДНХ (ныне ВВЦ)
по-прежнему экспонирует
гиперреальность, лишь поменявшую
свои знаки: в выставочных
павильонах разместились торговые
центры, а на открытых пространствах
бурлит народный вещевой рынок (41).
Стремление к
экспонированию реальности в эпоху
развитой симуляции приводит к
расширению особого рода публичных
пространств, таких, как кинотеатры,
"киноконцертные залы"
(новшество этого периода), дворцы
культуры. Кремлевский дворец
съездов, зал "Россия",
кинотеатры "Октябрь" и
"Новороссийск" в Москве -
культовые сооружения эпохи.
Советское пространство размечено
этими центрами экспонирования;
через них оно постоянно готово
сфокусироваться, отобразиться,
обернуться партсобранием,
заседанием, митингом, лекцией,
кинофильмом с непременным довеском
"Новостей дня". Симуляция
постсоветского периода продолжает
использовать этот потенциал
экспонирования: как выясняется,
любой совхозный дом культуры может
стать местом очередного съезда
КПСС, так же как любой московский
кинотеатр - ареной политических
конвенций. Сама же ВДНХ (ныне ВВЦ)
по-прежнему экспонирует
гиперреальность, лишь поменявшую
свои знаки: в выставочных
павильонах разместились торговые
центры, а на открытых пространствах
бурлит народный вещевой рынок (41).
![]() На выставке
развитого социализма
экспонируются, впрочем, не только
несуществующие продукты
производства, но и само утопическое
производство ("птицефабрика #
6" существует только в макете).
Начиная с первых пятилеток,
тотальная эстетизация экономики
вела к размыванию
производственного процесса как
такового. Понятия пятилетки,
государственного задания
принадлежат не экономике, а скорее
героическому эпосу, сопоставимы с
испытаниями мифического героя. За
выполнение заданий надо
"бороться" (ср. "битва за
урожай"); понятие
"производственной драмы" из
локального художественного жанра
превращается в общее описание
советской экономики: производство
действительно становится драмой,
пиесой и развивается по законам
эстетики. Прикрываясь лозунгом
нормативности, советская
экономика, по сути, ориентировалась
не на среднестатистическое, а на
сверхнормативное, драматическое,
героическое развитие.
На выставке
развитого социализма
экспонируются, впрочем, не только
несуществующие продукты
производства, но и само утопическое
производство ("птицефабрика #
6" существует только в макете).
Начиная с первых пятилеток,
тотальная эстетизация экономики
вела к размыванию
производственного процесса как
такового. Понятия пятилетки,
государственного задания
принадлежат не экономике, а скорее
героическому эпосу, сопоставимы с
испытаниями мифического героя. За
выполнение заданий надо
"бороться" (ср. "битва за
урожай"); понятие
"производственной драмы" из
локального художественного жанра
превращается в общее описание
советской экономики: производство
действительно становится драмой,
пиесой и развивается по законам
эстетики. Прикрываясь лозунгом
нормативности, советская
экономика, по сути, ориентировалась
не на среднестатистическое, а на
сверхнормативное, драматическое,
героическое развитие.
![]() Это
прослеживается в традиции
субботников, возникшей в 20-е годы и
в 30-е развивавшейся в двух
параллельных потоках: с одной
стороны, стахановское движение, с
другой - ГУЛаг. Обе формы
организации труда далеки от
экономической рациональности, труд
в них прежде всего "дело чести,
дело славы, дело доблести и
геройства" (этот стахановский
лозунг - непременный атрибут
каждого ОЛПа, лагпункта) (42), и лишь побочным эффектом
является собственно производство.
Симуляция в таких формах, как
стахановское стократное
перевыполнение нормы или миллионы
кубометров лагерной туфты,
упраздняет экономику как
внедискурсивную форму. К концу
сталинского периода производство
товаров окончательно подменяется
производством тотального общения,
т.е. самовоспроизведением
коллективного тела, тотальной речи.
Эффективность коллективных тел -
это эффективность внутреннего
сгорания, не переходящая в продукт;
они внутренне интенсивны
настолько, что у них просто не
хватает сил быть еще и
продуктивными. Сами они есть свой
единственный продукт (43).
Это
прослеживается в традиции
субботников, возникшей в 20-е годы и
в 30-е развивавшейся в двух
параллельных потоках: с одной
стороны, стахановское движение, с
другой - ГУЛаг. Обе формы
организации труда далеки от
экономической рациональности, труд
в них прежде всего "дело чести,
дело славы, дело доблести и
геройства" (этот стахановский
лозунг - непременный атрибут
каждого ОЛПа, лагпункта) (42), и лишь побочным эффектом
является собственно производство.
Симуляция в таких формах, как
стахановское стократное
перевыполнение нормы или миллионы
кубометров лагерной туфты,
упраздняет экономику как
внедискурсивную форму. К концу
сталинского периода производство
товаров окончательно подменяется
производством тотального общения,
т.е. самовоспроизведением
коллективного тела, тотальной речи.
Эффективность коллективных тел -
это эффективность внутреннего
сгорания, не переходящая в продукт;
они внутренне интенсивны
настолько, что у них просто не
хватает сил быть еще и
продуктивными. Сами они есть свой
единственный продукт (43).
![]() В 60 - 80-е
производство речи, определенного
набора означающих призвано уже не
столько вытеснить реальную
экономику за пределы текста,
сколько скрыть ее отсутствие. Для
этого создается разветвленная
знаковая система: институт
ударников и наставников, ветеранов
труда и рабочих династий, вахт и
починов; для этого планерки и
летучки, соцсоревнование и
трудовые эстафеты, партком и
местком, ксивы ДОСААФ и Красного
Креста, шефство и донорство,
субботники и воскресники.
Социально-речевая функция
заслоняет собственно
производственную сторону
производства; руководители и
рабочие воспроизводят весь
комплекс общественных отношений и
лишь в этом контексте что-то
производят (но чаще не производят).
В 60 - 80-е
производство речи, определенного
набора означающих призвано уже не
столько вытеснить реальную
экономику за пределы текста,
сколько скрыть ее отсутствие. Для
этого создается разветвленная
знаковая система: институт
ударников и наставников, ветеранов
труда и рабочих династий, вахт и
починов; для этого планерки и
летучки, соцсоревнование и
трудовые эстафеты, партком и
местком, ксивы ДОСААФ и Красного
Креста, шефство и донорство,
субботники и воскресники.
Социально-речевая функция
заслоняет собственно
производственную сторону
производства; руководители и
рабочие воспроизводят весь
комплекс общественных отношений и
лишь в этом контексте что-то
производят (но чаще не производят).
![]() В этом смысле
"советская экономика" (если
таковая вообще существовала) в
эпоху развитой симуляции
описывается популярной в
постструктурализме моделью потлача,
символического обмена дарами у
североамериканских индейцев и ряда
других народов. Подобно членам
племени, пытающимся превзойти друг
друга подарками, чтобы
продемонстрировать собственное
богатство, работники и советское
государство несут друг другу дары:
псевдотруд в обмен на социальные
псевдогарантии. Дело не в оплате,
вознаграждении или эквивалентном
обмене. Это обмен незначащими
символами: труд работника так же
бессмыслен и экономически
нерационален, как и
государственная гарантия "права
на жилье", ничем реально не
подкрепленная. Труд нефункционален
и необязателен, он становится
предметом не экономического, но
социального запроса, предметом
социального выбора. Роли
работников в так называемом
разделении труда есть лишь
статусные метки. Профессии - это
знаки, которые имеют ценность лишь
в рамках советского текста и
символического обмена, но никак не
соотносятся с производственной
необходимостью. Штатное
расписание, соотношение числа
рабочих и ИТР продиктованы
социальными (статусными), но не
экономическими соображениями.
"Советская экономика"
воспроизводится как совокупность
статусов-знаков, как ритуал: по
инерции, по привычке. Процесс
производства зарождается в
сердцевине повторяемых
символических действий.
Экономические формы являются
побочным результатом знаковой
деятельности.
В этом смысле
"советская экономика" (если
таковая вообще существовала) в
эпоху развитой симуляции
описывается популярной в
постструктурализме моделью потлача,
символического обмена дарами у
североамериканских индейцев и ряда
других народов. Подобно членам
племени, пытающимся превзойти друг
друга подарками, чтобы
продемонстрировать собственное
богатство, работники и советское
государство несут друг другу дары:
псевдотруд в обмен на социальные
псевдогарантии. Дело не в оплате,
вознаграждении или эквивалентном
обмене. Это обмен незначащими
символами: труд работника так же
бессмыслен и экономически
нерационален, как и
государственная гарантия "права
на жилье", ничем реально не
подкрепленная. Труд нефункционален
и необязателен, он становится
предметом не экономического, но
социального запроса, предметом
социального выбора. Роли
работников в так называемом
разделении труда есть лишь
статусные метки. Профессии - это
знаки, которые имеют ценность лишь
в рамках советского текста и
символического обмена, но никак не
соотносятся с производственной
необходимостью. Штатное
расписание, соотношение числа
рабочих и ИТР продиктованы
социальными (статусными), но не
экономическими соображениями.
"Советская экономика"
воспроизводится как совокупность
статусов-знаков, как ритуал: по
инерции, по привычке. Процесс
производства зарождается в
сердцевине повторяемых
символических действий.
Экономические формы являются
побочным результатом знаковой
деятельности.
![]() Также и
"административный рынок" есть,
в сущности, ритуал, разновидность
потлача. Участники бюрократической
игры воспроизводят свой статус,
позицию, права - т.е. опять же заняты
чисто знаковой деятельностью. Для
выяснения, подтверждения или
изменения статуса они вступают в
обмен дарами: потоками товаров,
ресурсов, привилегий. В этом
символическом обмене соображения
экономической целесообразности
вторичны.
Также и
"административный рынок" есть,
в сущности, ритуал, разновидность
потлача. Участники бюрократической
игры воспроизводят свой статус,
позицию, права - т.е. опять же заняты
чисто знаковой деятельностью. Для
выяснения, подтверждения или
изменения статуса они вступают в
обмен дарами: потоками товаров,
ресурсов, привилегий. В этом
символическом обмене соображения
экономической целесообразности
вторичны.
![]() Вместе с тем
масштабный индустриальный потлач,
в который превратилась советская
экономика в 60 - 80-е гг., существенным
образом отличается от других
известных видов потлача, описанных
Марселем Моссом, Жоржем Батаем и
др.: он нуждается в огромном
количестве ресурсов, расточаемых в
качестве даров. Если бы ресурсы для
продолжения символического обмена
были бесконечны, логика самой
дорогостоящей бедности в мире
могла бы окончательно
выкристаллизоваться как система,
для которой полураспад является
нормой (44). Однако ресурсы
индустриального и
административного потлача не
безграничны. Характерно, что
неизбежный кризис экономики
символического обмена попытались
разрешить на символическом же
уровне. Речь идет о перестройке
конца 80-х, заключительном этапе
советской симуляции, попытке
спасти сам принцип символического
обмена путем введения в него новых
(рыночных, западных и прочих
инославных) означающих.
Вместе с тем
масштабный индустриальный потлач,
в который превратилась советская
экономика в 60 - 80-е гг., существенным
образом отличается от других
известных видов потлача, описанных
Марселем Моссом, Жоржем Батаем и
др.: он нуждается в огромном
количестве ресурсов, расточаемых в
качестве даров. Если бы ресурсы для
продолжения символического обмена
были бесконечны, логика самой
дорогостоящей бедности в мире
могла бы окончательно
выкристаллизоваться как система,
для которой полураспад является
нормой (44). Однако ресурсы
индустриального и
административного потлача не
безграничны. Характерно, что
неизбежный кризис экономики
символического обмена попытались
разрешить на символическом же
уровне. Речь идет о перестройке
конца 80-х, заключительном этапе
советской симуляции, попытке
спасти сам принцип символического
обмена путем введения в него новых
(рыночных, западных и прочих
инославных) означающих.
![]() Пользуясь
термином Делеза и Гваттари,
перестройка была заменой распада
на "нетелесную трансформацию",
заменой эксплозии на имплозию,
взрыва вовне на внутреннее
потрясение. Перестройка была
очередным знаковым маневром с
целью ускользнуть от реальности;
показательна ловкость,
оборотистость, бойкая
обмениваемость горбачевского
дискурса как в стране, так и за
рубежом - достаточно вспомнить
анекдотические "процесс
пошел", "нам подбрасывают"
или излюбленную "философию"
(философия хозрасчета, философия
нового мышления и т.п.).
Невменяемость перестроечного
лексикона завораживала. Система
пыталась избежать смерти за счет
симуляции смерти. Допуская якобы
смертоносные для нее знаки рынка,
она и их включала в символический
обмен - и тем самым
гиперреализовывала,
нейтрализовывала рынок.
Театрализация рынка заставляла
заражаться его симптомами, не
болеть, но как бы постоянно
заболевать им. Неизбежность
реформы и мутации - если считать их
неизбежными - обыгрывалась
симуляцией неизбежности и за счет
этого отодвигалась на
неопределенное время (45).
Новоогаревский процесс и
несостоявшийся союзный договор
были попытками избежать распада
страны за счет симуляции оного.
Пользуясь
термином Делеза и Гваттари,
перестройка была заменой распада
на "нетелесную трансформацию",
заменой эксплозии на имплозию,
взрыва вовне на внутреннее
потрясение. Перестройка была
очередным знаковым маневром с
целью ускользнуть от реальности;
показательна ловкость,
оборотистость, бойкая
обмениваемость горбачевского
дискурса как в стране, так и за
рубежом - достаточно вспомнить
анекдотические "процесс
пошел", "нам подбрасывают"
или излюбленную "философию"
(философия хозрасчета, философия
нового мышления и т.п.).
Невменяемость перестроечного
лексикона завораживала. Система
пыталась избежать смерти за счет
симуляции смерти. Допуская якобы
смертоносные для нее знаки рынка,
она и их включала в символический
обмен - и тем самым
гиперреализовывала,
нейтрализовывала рынок.
Театрализация рынка заставляла
заражаться его симптомами, не
болеть, но как бы постоянно
заболевать им. Неизбежность
реформы и мутации - если считать их
неизбежными - обыгрывалась
симуляцией неизбежности и за счет
этого отодвигалась на
неопределенное время (45).
Новоогаревский процесс и
несостоявшийся союзный договор
были попытками избежать распада
страны за счет симуляции оного.
![]() Подобное
заражение западными и прочими
чуждыми означающими было формой
борьбы с ними, попыткой сохранить
советский дискурс, сам текст СССР.
Но оно не могло пройти бесследно.
Одно дело - притвориться больным
(замотать горло, лечь в постель),
другое - симулировать болезнь (т.е.
вызвать у себя ее симптомы).
Симулянта нельзя охарактеризовать
как однозначно больного или
однозначно здорового. СССР периода
перестройки, симулирующий
собственную смерть, уже вступил в
мир теней. Огромная карта цвета
семги, покрывающая одну шестую
часть суши, дотлевала на глазах.
Гиперреальность СССР готова была
разрушиться, рассеяться,
раствориться, -
Подобное
заражение западными и прочими
чуждыми означающими было формой
борьбы с ними, попыткой сохранить
советский дискурс, сам текст СССР.
Но оно не могло пройти бесследно.
Одно дело - притвориться больным
(замотать горло, лечь в постель),
другое - симулировать болезнь (т.е.
вызвать у себя ее симптомы).
Симулянта нельзя охарактеризовать
как однозначно больного или
однозначно здорового. СССР периода
перестройки, симулирующий
собственную смерть, уже вступил в
мир теней. Огромная карта цвета
семги, покрывающая одну шестую
часть суши, дотлевала на глазах.
Гиперреальность СССР готова была
разрушиться, рассеяться,
раствориться, -
![]() Девяностые: Эпоха соблазна
Девяностые: Эпоха соблазна
![]() - хотя может ли
исчезнуть гиперреальность, может
ли несуществующее - прекратить
существовать? "Распад СССР" -
весьма условное обозначение
происшедшего, ибо субъекта распада
не было. Была нереферентная
знаковая система, симулякр, не
только искажающий реальность, но
прикрывающий полное ее отсутствие.
Подняв полуистлевшую карту,
обнаружили, что под ней ничего нет:
ни империи, ни державы, ни даже
пустыни. Ничего. Иными словами, в
некий момент (положим, в декабре 1991
г.), или скорее в некий период (1990 -
1991) обнаружилась симулятивность
симулякра. Что последовало за этим
открытием, какая реакция? Ответом
было молчание. Обескураживал не
столько сам факт "распада
Союза", сколько общественное
равнодушие по данному поводу. СССР
слинял в два дня. Самое большее - в
три. Даже газету "Правда"
нельзя было закрыть так скоро, как
закрылся СССР. Точно так же в 1917-18-м,
при цепенящем общем безразличии,
обнаружилась симулятивность той,
прежней России (46).
- хотя может ли
исчезнуть гиперреальность, может
ли несуществующее - прекратить
существовать? "Распад СССР" -
весьма условное обозначение
происшедшего, ибо субъекта распада
не было. Была нереферентная
знаковая система, симулякр, не
только искажающий реальность, но
прикрывающий полное ее отсутствие.
Подняв полуистлевшую карту,
обнаружили, что под ней ничего нет:
ни империи, ни державы, ни даже
пустыни. Ничего. Иными словами, в
некий момент (положим, в декабре 1991
г.), или скорее в некий период (1990 -
1991) обнаружилась симулятивность
симулякра. Что последовало за этим
открытием, какая реакция? Ответом
было молчание. Обескураживал не
столько сам факт "распада
Союза", сколько общественное
равнодушие по данному поводу. СССР
слинял в два дня. Самое большее - в
три. Даже газету "Правда"
нельзя было закрыть так скоро, как
закрылся СССР. Точно так же в 1917-18-м,
при цепенящем общем безразличии,
обнаружилась симулятивность той,
прежней России (46).
![]() В декабре 91-го
СССР был столь же нереален, как до и
после того. В декабре 91-го пустоту
назвали пустотой, и от этого ничего
не изменилось. Секрет пустоты был
раскрыт, но сама эта пустота никуда
не делась (может ли вообще пустота
исчезнуть?), она осталась с нами. И
это всеобщее знание секрета,
всеобщее молчание о нем, это
незримое присутствие пустоты
говорят о том, что мы вступаем в
особую область симуляции, которую
Бодрийар обозначает словом seduction: в
запретную зону соблазна.
В декабре 91-го
СССР был столь же нереален, как до и
после того. В декабре 91-го пустоту
назвали пустотой, и от этого ничего
не изменилось. Секрет пустоты был
раскрыт, но сама эта пустота никуда
не делась (может ли вообще пустота
исчезнуть?), она осталась с нами. И
это всеобщее знание секрета,
всеобщее молчание о нем, это
незримое присутствие пустоты
говорят о том, что мы вступаем в
особую область симуляции, которую
Бодрийар обозначает словом seduction: в
запретную зону соблазна.
![]() Соблазн,
наверное, высшая стадия симуляции -
но последняя ли? Соблазн - это
секрет Полишинеля: я знаю, что ты
знаешь, что я знаю; но в том и суть
соблазна, чтобы секрет Полишинеля
оставался секретом, тайна
мадридского двора - тайной. Соблазн
- это интенсивность отношения между
людьми, знающими секрет, знающими,
что он известен каждому, но
молчащими о нем (47); это заговор
молчания.
Соблазн,
наверное, высшая стадия симуляции -
но последняя ли? Соблазн - это
секрет Полишинеля: я знаю, что ты
знаешь, что я знаю; но в том и суть
соблазна, чтобы секрет Полишинеля
оставался секретом, тайна
мадридского двора - тайной. Соблазн
- это интенсивность отношения между
людьми, знающими секрет, знающими,
что он известен каждому, но
молчащими о нем (47); это заговор
молчания.
![]() Именно так:
сговор. Вольно или невольно,
хулители или почитатели СССР (но в
любом случае носители единственной
данной нам советской речи), мы все
являемся заговорщиками. СССР
сегодня - это заговор, тайна, секрет,
чара, приманка, ворожба. Соблазн
сильнее симуляции: никогда еще СССР
не был так силен, как в наши дни.
Зачарованность пустотой и
отсутствием смысла сильнее, чем
зачарованность знаками и мнимым
смыслом:
Именно так:
сговор. Вольно или невольно,
хулители или почитатели СССР (но в
любом случае носители единственной
данной нам советской речи), мы все
являемся заговорщиками. СССР
сегодня - это заговор, тайна, секрет,
чара, приманка, ворожба. Соблазн
сильнее симуляции: никогда еще СССР
не был так силен, как в наши дни.
Зачарованность пустотой и
отсутствием смысла сильнее, чем
зачарованность знаками и мнимым
смыслом:
![]() Игра.
Десятилетиями бывшая прикровенно
эстетической, гиперреальность СССР
стала теперь откровенно игровой.
Хрестоматийный лотмановский
пример: полосатый халат,
наброшенный на стул, для ребенка в
игре изображает тигра. Ребенок не
боится халата, но и не равнодушен к
нему: он побаивается. Сейчас
объектом игрового отношения стали
СССР и все его означающие - Союз,
социализм, Ленин, равенство, советы,
борьба, стачка, коммунизм, товарищ,
революция, Сталин, Родина,
большевик, Великая Отечественная и
пр. Это не всеподавляющие знаки
сталинской эпохи, не унылые
симуляции брежневского времени, а
всего лишь фишки в игре, бисер, в
лучшем случае бумажные тигры.
Гипотетические жертвы их не боятся,
но побаиваются, сторонники в них не
верят, но поверивают. Даже
ненависть к этим знакам, знакомая
многим по концу 80-х - началу 90-х,
выродилась в усталое остраненное
неприятие.
Игра.
Десятилетиями бывшая прикровенно
эстетической, гиперреальность СССР
стала теперь откровенно игровой.
Хрестоматийный лотмановский
пример: полосатый халат,
наброшенный на стул, для ребенка в
игре изображает тигра. Ребенок не
боится халата, но и не равнодушен к
нему: он побаивается. Сейчас
объектом игрового отношения стали
СССР и все его означающие - Союз,
социализм, Ленин, равенство, советы,
борьба, стачка, коммунизм, товарищ,
революция, Сталин, Родина,
большевик, Великая Отечественная и
пр. Это не всеподавляющие знаки
сталинской эпохи, не унылые
симуляции брежневского времени, а
всего лишь фишки в игре, бисер, в
лучшем случае бумажные тигры.
Гипотетические жертвы их не боятся,
но побаиваются, сторонники в них не
верят, но поверивают. Даже
ненависть к этим знакам, знакомая
многим по концу 80-х - началу 90-х,
выродилась в усталое остраненное
неприятие.
![]() Это, впрочем, не
значит, что игра безопасна. Игры
бывают и смертельными: таковы, к
примеру, дуэль или любовный
поединок, головокружительная
схватка, вырастающая из пустоты. Но
опасность исходит не от знаков, а от
самого принципа игры, от
"интенсивности отношения" в
эту игру вовлеченных - от соблазна,
от завороженности пустотой,
смертью.
Это, впрочем, не
значит, что игра безопасна. Игры
бывают и смертельными: таковы, к
примеру, дуэль или любовный
поединок, головокружительная
схватка, вырастающая из пустоты. Но
опасность исходит не от знаков, а от
самого принципа игры, от
"интенсивности отношения" в
эту игру вовлеченных - от соблазна,
от завороженности пустотой,
смертью.
![]() Иными словами, советский
дискурс сохранился в постсоветскую
эпоху (в связи с чем вызывает
сомнение корректность термина
"постсоветский"). Для этого ему
пришлось выйти на новый уровень
эстетического: превратиться в игру;
на новый уровень симуляции:
превратиться в соблазн.
Единственная семиотическая
событийность 90-х - это смена
симуляционных парадигм в рамках
все того же советского дискурса.
Если прежде СССР был тотальной
литургией (30-е - 50-е), которая в ходе
десакрализации превратилась в
тотальную ВДНХ (60-е - 80-е), то в
результате окончательной
секуляризации советский дискурс
обернулся театрализованным
действом, тотальным спектаклем.
Выставка, на которой еще можно было
поверить в существование
экспонируемого объекта или хотя бы
в его способность отражать
вневыставочную реальность (мы
видим в музее паровоз и верим, что
еще тысячи таких же бегают по
железным дорогам), превратилась в
спектакль, где никто уже не верит в
реальность происходящего. Сила
театра, сила игры, сила соблазна (49).
Иными словами, советский
дискурс сохранился в постсоветскую
эпоху (в связи с чем вызывает
сомнение корректность термина
"постсоветский"). Для этого ему
пришлось выйти на новый уровень
эстетического: превратиться в игру;
на новый уровень симуляции:
превратиться в соблазн.
Единственная семиотическая
событийность 90-х - это смена
симуляционных парадигм в рамках
все того же советского дискурса.
Если прежде СССР был тотальной
литургией (30-е - 50-е), которая в ходе
десакрализации превратилась в
тотальную ВДНХ (60-е - 80-е), то в
результате окончательной
секуляризации советский дискурс
обернулся театрализованным
действом, тотальным спектаклем.
Выставка, на которой еще можно было
поверить в существование
экспонируемого объекта или хотя бы
в его способность отражать
вневыставочную реальность (мы
видим в музее паровоз и верим, что
еще тысячи таких же бегают по
железным дорогам), превратилась в
спектакль, где никто уже не верит в
реальность происходящего. Сила
театра, сила игры, сила соблазна (49).
![]() Сила симуляции.
Иногда кажется, что она неодолима.
На наших глазах в недрах текста
СССР, в том же пространстве
симуляции возникает новая знаковая
система, в официальных документах
называемая Россией.
Сила симуляции.
Иногда кажется, что она неодолима.
На наших глазах в недрах текста
СССР, в том же пространстве
симуляции возникает новая знаковая
система, в официальных документах
называемая Россией.
![]() Симуляция власти, власть
симуляции
Симуляция власти, власть
симуляции
![]() Нарождение новой
знаковости - в России и других
постсоветских образованиях -
расширило ресурсы символического
обмена. Новые означающие,
претендующие на почвенность,
органичность (нация, территория,
религия, отечество, историческое
наследие, историческая
справедливость, освобождение
личности, возвращение в
цивилизацию и пр.), были столь же
далеки от почвы, реальности, как и
прежние,
советско-интернационалистские.
Нарождение новой
знаковости - в России и других
постсоветских образованиях -
расширило ресурсы символического
обмена. Новые означающие,
претендующие на почвенность,
органичность (нация, территория,
религия, отечество, историческое
наследие, историческая
справедливость, освобождение
личности, возвращение в
цивилизацию и пр.), были столь же
далеки от почвы, реальности, как и
прежние,
советско-интернационалистские.
![]() В этом смысле
советский дискурс сохранился за
счет введения постсоветских (в
основном российских) означающих.
Новые знаки сохранили прежний
способ гиперреализации мира.
Борьба советского и российского в
1990 - 1991 гг. (война указов,
конституций, Верховных Советов и
пр.) была, в сущности, борьбой за
выживание советского. Дискурс
власти реализовался через
самоотрицание: симулируя смерть, он
стремился избежать своей
действительной агонии, "пытался
прервать порочный круг
несуществования, своего deja-vu и
deja-mort" (50).
В этом смысле
советский дискурс сохранился за
счет введения постсоветских (в
основном российских) означающих.
Новые знаки сохранили прежний
способ гиперреализации мира.
Борьба советского и российского в
1990 - 1991 гг. (война указов,
конституций, Верховных Советов и
пр.) была, в сущности, борьбой за
выживание советского. Дискурс
власти реализовался через
самоотрицание: симулируя смерть, он
стремился избежать своей
действительной агонии, "пытался
прервать порочный круг
несуществования, своего deja-vu и
deja-mort" (50).
![]() Что во многом
удалось. В итоге - перепроизводство
знаков, символов, мифов. В
сегодняшней России область
нереферентной знаковости
расширилась необычайно.
Одновременно с чисто игровым
текстом СССР существует текст
Россия с высокой степенью
симулятивности. По сути, эти два
текста переплелись, во многих своих
компонентах став
взаимозаменяемыми. Они существуют
в рамках все того же советского
дискурса, того же пространства
симуляции; с семиотической точки
зрения СССР и "постсоветская
Россия" - две стороны одной
медали, бинарная оппозиция,
обеспечивающая существование
семиотического поля.
Что во многом
удалось. В итоге - перепроизводство
знаков, символов, мифов. В
сегодняшней России область
нереферентной знаковости
расширилась необычайно.
Одновременно с чисто игровым
текстом СССР существует текст
Россия с высокой степенью
симулятивности. По сути, эти два
текста переплелись, во многих своих
компонентах став
взаимозаменяемыми. Они существуют
в рамках все того же советского
дискурса, того же пространства
симуляции; с семиотической точки
зрения СССР и "постсоветская
Россия" - две стороны одной
медали, бинарная оппозиция,
обеспечивающая существование
семиотического поля.
![]() Кризис
репрезентации охватывает все сферы
бытия, но распределен по
семантическому пространству
неравномерно. Чем более
централизована идея, форма,
институт, чем выше степень
абстракции, тем больше ее
симулятивность. В этом смысле
симуляцией самого высокого порядка
является политика. Политика вообще,
по-видимому, одно из наиболее
центростремительных,
интегративных начал. Дискурс
власти работает по логике
расширения, подчинения: это дискурс
силы.
Кризис
репрезентации охватывает все сферы
бытия, но распределен по
семантическому пространству
неравномерно. Чем более
централизована идея, форма,
институт, чем выше степень
абстракции, тем больше ее
симулятивность. В этом смысле
симуляцией самого высокого порядка
является политика. Политика вообще,
по-видимому, одно из наиболее
центростремительных,
интегративных начал. Дискурс
власти работает по логике
расширения, подчинения: это дискурс
силы.
![]() Осуществляясь же
в гиперреальном пространстве,
максимальные интенции политики
оборачиваются максимальной
симулятивностью. Чтобы поддержать
свой имидж (и просто оправдать свое
название), власть вынуждена
симулировать некое управляемое,
просчитываемое, прогнозируемое
пространство, подчиняющееся
законам референциальности и
каузальности. Этот симулякр назван
российской политикой. Порождающая
модель этой гиперреальности -
Москва, фокальная точка
пространства, особая знаковая
система, политическая матрица.
Сильнейшая концентрация и
взаимодействие знаков и текстов на
площади в несколько квадратных
километров (в основном в пределах
Садового кольца) порождает особое
поле псевдособытий, призванное
симулировать российскую политику.
Употребляемые означающие империи,
государственности, державности и
пр. являются специфически
московскими по происхождению и
имеют меновую ценность лишь в
московском символическом обмене.
Московская тусовка представляет
несуществующую Россию в той же
мере, в какой ВДНХ представляла
несуществующий СССР, Диснейленд -
несуществующую Америку.
Осуществляясь же
в гиперреальном пространстве,
максимальные интенции политики
оборачиваются максимальной
симулятивностью. Чтобы поддержать
свой имидж (и просто оправдать свое
название), власть вынуждена
симулировать некое управляемое,
просчитываемое, прогнозируемое
пространство, подчиняющееся
законам референциальности и
каузальности. Этот симулякр назван
российской политикой. Порождающая
модель этой гиперреальности -
Москва, фокальная точка
пространства, особая знаковая
система, политическая матрица.
Сильнейшая концентрация и
взаимодействие знаков и текстов на
площади в несколько квадратных
километров (в основном в пределах
Садового кольца) порождает особое
поле псевдособытий, призванное
симулировать российскую политику.
Употребляемые означающие империи,
государственности, державности и
пр. являются специфически
московскими по происхождению и
имеют меновую ценность лишь в
московском символическом обмене.
Московская тусовка представляет
несуществующую Россию в той же
мере, в какой ВДНХ представляла
несуществующий СССР, Диснейленд -
несуществующую Америку.
![]() Моделирующую
роль московских знаков наглядно
подтверждает повесть о двух путчах.
Сфабрикованные в Москве и
поддающиеся интерпретации
исключительно в московских
терминах, они были спроецированы на
весь СССР в августе 91-го, на всю
Россию в октябре 93-го.
Моделирующую
роль московских знаков наглядно
подтверждает повесть о двух путчах.
Сфабрикованные в Москве и
поддающиеся интерпретации
исключительно в московских
терминах, они были спроецированы на
весь СССР в августе 91-го, на всю
Россию в октябре 93-го.
![]() Хотя - поддаются
ли они конечной интерпретации?
Минуют месяцы, годы, а истина этих
событий все дальше уходит от нас,
растворяется в обилии комментариев
- так что закрадывается сомнение: а
существует ли эта истина вообще?
Взять октябрьские "события" 1993
г. (51). С определенной степенью
достоверности их можно
интерпретировать как: неудавшийся
вооруженный мятеж оппозиции;
инспирированное Ельциным действо с
целью скомпрометировать и
уничтожить оппозицию; очередную
разборку между элитными
группировками по поводу
собственности; разборку между
московской мафией, контролирующей
индустрию стройматериалов, и рядом
немосковских (прежде всего
чеченской) мафиозных группировок,
контролирующих оружие и наркотики (52); выяснение отношений между
компонентами силовых структур - и
дальше, дальше... Неленивый
наблюдатель может насчитать до
двух десятков версий, появившихся
за прошедшие месяцы. Ни одна из них
не претендует на окончательность,
все они являются более или менее
внятными и более или менее
взаимозаменяемыми. Не может
воссоздать полноты картины и
совокупность интерпретаций, ибо их
число принципиально открыто и
зависит от позиции интерпретатора.
Хотя - поддаются
ли они конечной интерпретации?
Минуют месяцы, годы, а истина этих
событий все дальше уходит от нас,
растворяется в обилии комментариев
- так что закрадывается сомнение: а
существует ли эта истина вообще?
Взять октябрьские "события" 1993
г. (51). С определенной степенью
достоверности их можно
интерпретировать как: неудавшийся
вооруженный мятеж оппозиции;
инспирированное Ельциным действо с
целью скомпрометировать и
уничтожить оппозицию; очередную
разборку между элитными
группировками по поводу
собственности; разборку между
московской мафией, контролирующей
индустрию стройматериалов, и рядом
немосковских (прежде всего
чеченской) мафиозных группировок,
контролирующих оружие и наркотики (52); выяснение отношений между
компонентами силовых структур - и
дальше, дальше... Неленивый
наблюдатель может насчитать до
двух десятков версий, появившихся
за прошедшие месяцы. Ни одна из них
не претендует на окончательность,
все они являются более или менее
внятными и более или менее
взаимозаменяемыми. Не может
воссоздать полноты картины и
совокупность интерпретаций, ибо их
число принципиально открыто и
зависит от позиции интерпретатора.
![]() Еще более
головокружительная алеаторика,
многовариантность интерпретации
характерна для политических актов
февраля-марта 1994-го: амнистии для
участников "октябрьских
событий", роспуска комиссии по
расследованию оных, договора об
общественном согласии. На заданный
с ленинской прямотой вопрос
"кому это выгодно?" можно
твердо ответить: всем. Всем
участникам политической игры.
Поливалентность, сочетаемость этих
актов с различными политическими
позициями уникальна: каждая из
действующих политических сил
интерпретировала их в свою пользу.
Еще более
головокружительная алеаторика,
многовариантность интерпретации
характерна для политических актов
февраля-марта 1994-го: амнистии для
участников "октябрьских
событий", роспуска комиссии по
расследованию оных, договора об
общественном согласии. На заданный
с ленинской прямотой вопрос
"кому это выгодно?" можно
твердо ответить: всем. Всем
участникам политической игры.
Поливалентность, сочетаемость этих
актов с различными политическими
позициями уникальна: каждая из
действующих политических сил
интерпретировала их в свою пользу.
![]() Что наводит на
следующее соображение:
интерпретация уже заложена,
запрограммирована в событии, и даже
более того - интерпретация
предшествует событию. Вспомнить
тот шухер, что подняла в верхних
эшелонах российской власти
пресловутая "версия номер
один". Бодрийар называет это
прецессией модели, вернее, всех
моделей единичного события:
"Первыми идут модели, и их
орбитальное вращение создает
магнитное поле событий. У фактов
более нет собственной траектории,
они возникают на пересечении
моделей <...> Это позволяет
производить все возможные
интерпретации, даже самые
противоречивые, - и все они истинны
в том смысле, что их истинность
взаимозаменяема" (53).
Что наводит на
следующее соображение:
интерпретация уже заложена,
запрограммирована в событии, и даже
более того - интерпретация
предшествует событию. Вспомнить
тот шухер, что подняла в верхних
эшелонах российской власти
пресловутая "версия номер
один". Бодрийар называет это
прецессией модели, вернее, всех
моделей единичного события:
"Первыми идут модели, и их
орбитальное вращение создает
магнитное поле событий. У фактов
более нет собственной траектории,
они возникают на пересечении
моделей <...> Это позволяет
производить все возможные
интерпретации, даже самые
противоречивые, - и все они истинны
в том смысле, что их истинность
взаимозаменяема" (53).
![]() Таким образом,
взаимодействие моделей-симулякров
("исполнительная власть",
"представительная власть",
"идеологии", "партии",
"мафии", "силовые
структуры", "элиты",
"лобби", "группы
интересов", реже "регионы")
определяет формат ключевых
политических событий. Российская
политика возникает в процессе
локального знакового обмена, на
пересечении моделей-симулякров в
Москве. Вся внетекстуальная
событийность, не охватываемая
существующими знаками, моделями и
парадигмами (идеологическими,
властными, партийными,
административно-территориальными
и пр.), полагается несуществующей,
исключается из "российской
политики".
Таким образом,
взаимодействие моделей-симулякров
("исполнительная власть",
"представительная власть",
"идеологии", "партии",
"мафии", "силовые
структуры", "элиты",
"лобби", "группы
интересов", реже "регионы")
определяет формат ключевых
политических событий. Российская
политика возникает в процессе
локального знакового обмена, на
пересечении моделей-симулякров в
Москве. Вся внетекстуальная
событийность, не охватываемая
существующими знаками, моделями и
парадигмами (идеологическими,
властными, партийными,
административно-территориальными
и пр.), полагается несуществующей,
исключается из "российской
политики".
![]() Из этого можно
сделать два вывода. Первый - о
невозможности полной и адекватной
интерпретации современной
российской политики, ибо политика
не обладает собственным
содержанием. Интерпретация как
рефлексия вообще не представляется
возможной; речь скорее может идти
об интерпретации как
моделировании. (Сошлемся в качестве
примера на все ту же "версию
номер один".) В этом зыбком свете,
в этом туманном воздухе отказывают
привычные инструменты анализа -
такие, как выявление бинарных
оппозиций (левый-правый,
демократия-авторитаризм,
национализм-космополитизм,
регионализм-сепаратизм и пр.) и
связанных с ними спектральных
градаций ("политический
спектр") и иерархий (уровни
властного подчинения, уровни
территориального подчинения и
включения). Отказывают и
классические методы верификации
гипотез. Противоречащие
интерпретации являются
одновременно истинными, для них
характерна взаимозаменяемость и
взаимодополняемость.
Из этого можно
сделать два вывода. Первый - о
невозможности полной и адекватной
интерпретации современной
российской политики, ибо политика
не обладает собственным
содержанием. Интерпретация как
рефлексия вообще не представляется
возможной; речь скорее может идти
об интерпретации как
моделировании. (Сошлемся в качестве
примера на все ту же "версию
номер один".) В этом зыбком свете,
в этом туманном воздухе отказывают
привычные инструменты анализа -
такие, как выявление бинарных
оппозиций (левый-правый,
демократия-авторитаризм,
национализм-космополитизм,
регионализм-сепаратизм и пр.) и
связанных с ними спектральных
градаций ("политический
спектр") и иерархий (уровни
властного подчинения, уровни
территориального подчинения и
включения). Отказывают и
классические методы верификации
гипотез. Противоречащие
интерпретации являются
одновременно истинными, для них
характерна взаимозаменяемость и
взаимодополняемость.
![]() Вообще скорее
надо говорить не об интерпретациях,
а о сценариях российской политики,
не об идеологии власти, а об
альтернативных сценариях власти,
которые реализуются попеременно
или все сразу (54). В этой
ситуации позиция независимого
наблюдателя невозможна, всякий
интерпретатор становится
сценаристом и неизбежно
интегрируется в дискурс; любая
рефлексия становится участием в
симуляции, в знаковой игре. (Если
понимать интерпретацию как
опосредование, медиум, то как не
вспомнить маклюэновское "medium is the
message" - т.е. интерпретация и
является единственным содержанием
политики.)
Вообще скорее
надо говорить не об интерпретациях,
а о сценариях российской политики,
не об идеологии власти, а об
альтернативных сценариях власти,
которые реализуются попеременно
или все сразу (54). В этой
ситуации позиция независимого
наблюдателя невозможна, всякий
интерпретатор становится
сценаристом и неизбежно
интегрируется в дискурс; любая
рефлексия становится участием в
симуляции, в знаковой игре. (Если
понимать интерпретацию как
опосредование, медиум, то как не
вспомнить маклюэновское "medium is the
message" - т.е. интерпретация и
является единственным содержанием
политики.)
![]() То есть в
российской политике субъект
подменяется гипер-реальным
объектом, симулякром. Отсюда и второй
вывод: подобно тому, как
невозможен субъект интерпретации, у
власти также нет субъектности.
Невозможна позиция, с которой
дискурс власти мог бы
осуществляться, невозможна позиция
силы. Политика складывается как
игра противоречащих сценариев,
люди и положения становятся
функциями знаков. Это во многом
объясняет головокружительные
эволюции большинства политических
деятелей минувшего десятилетия: от
Горбачева и Ельцина до Руцкого и
Константинова, трехходовки типа
коммунист-демократ-державник а la Станкевич.
Здесь не традиционное советское
"колебался вместе с партией",
тут другое: политики попадают в
шестерни символического обмена,
которые мнут и перемещают их слабые
тела.
То есть в
российской политике субъект
подменяется гипер-реальным
объектом, симулякром. Отсюда и второй
вывод: подобно тому, как
невозможен субъект интерпретации, у
власти также нет субъектности.
Невозможна позиция, с которой
дискурс власти мог бы
осуществляться, невозможна позиция
силы. Политика складывается как
игра противоречащих сценариев,
люди и положения становятся
функциями знаков. Это во многом
объясняет головокружительные
эволюции большинства политических
деятелей минувшего десятилетия: от
Горбачева и Ельцина до Руцкого и
Константинова, трехходовки типа
коммунист-демократ-державник а la Станкевич.
Здесь не традиционное советское
"колебался вместе с партией",
тут другое: политики попадают в
шестерни символического обмена,
которые мнут и перемещают их слабые
тела.
![]() Власть неумолимо
разрушается. Отныне ее задачей
делается симуляция: во-первых,
симуляция управляемого
пространства власти (см. выше) и,
во-вторых, производство эффектов
власти, знаков собственного
подобия. Это производство
подчиняется закону спроса и
предложения: подобно "русским по
вызову" (Глеб Павловский), это
власть по вызову.
Государственность и державность со
склада в Москве. Оплата по факту.
Оптовикам скидка. Запрос на знаки
власти исходит как со стороны масс,
которым нужен спектакль, знаковая
игра (55), так и от самих участников
политического шоу. Вокруг
исчезающей власти формируется
общественный союз, соглашение тех,
кто опасается коллапса
политического. В конце концов игра
власти сводится к одержимости
властью - одержимости по поводу ее
смерти и выживания, одержимости,
которая становится тем сильнее, чем
больше власть исчезает. "Когда же
власть окончательно исчезнет, то по
логике вещей мы полностью окажемся
под ее пятой" (56). Новый
российский авторитаризм, если
таковой и придет, будет апофеозом
безвластия. Апофеозом
бессубъектности: диктатурой не лиц,
но знаков.
Власть неумолимо
разрушается. Отныне ее задачей
делается симуляция: во-первых,
симуляция управляемого
пространства власти (см. выше) и,
во-вторых, производство эффектов
власти, знаков собственного
подобия. Это производство
подчиняется закону спроса и
предложения: подобно "русским по
вызову" (Глеб Павловский), это
власть по вызову.
Государственность и державность со
склада в Москве. Оплата по факту.
Оптовикам скидка. Запрос на знаки
власти исходит как со стороны масс,
которым нужен спектакль, знаковая
игра (55), так и от самих участников
политического шоу. Вокруг
исчезающей власти формируется
общественный союз, соглашение тех,
кто опасается коллапса
политического. В конце концов игра
власти сводится к одержимости
властью - одержимости по поводу ее
смерти и выживания, одержимости,
которая становится тем сильнее, чем
больше власть исчезает. "Когда же
власть окончательно исчезнет, то по
логике вещей мы полностью окажемся
под ее пятой" (56). Новый
российский авторитаризм, если
таковой и придет, будет апофеозом
безвластия. Апофеозом
бессубъектности: диктатурой не лиц,
но знаков.
![]() Кризис
репрезентации (не только
политического представительства
электората, но и репрезентации
массы как таковой) проявляется
сегодня и в форме небывалого
распространения референдумов. За
несколько лет внедрив такой
опробованный метод симуляции, как
тестирование и социологические
опросы (которые нейтрализуют
значение, сводя его к квантуемым
количествам информации, двоичному
коду, к простейшей модели
"вопрос-ответ", пародирующей
бихевиористскую
"стимул-реакция": вопрос
поглощает - или предвосхищает, или
придумывает, или симулирует ответ (57)), советский дискурс возвел его
в основополагающий политический
принцип. К референдумам прибегают
власти всех уровней: СССР
(референдум о судьбе Союза, март 1991
г.), России (референдумы апреля и
декабря 1993 г.), республик и областей
(в основном референдумы о
независимости), более мелких
административных единиц (города и
т.д.). Под личиной предельной
демократичности (плебисцит! вече!)
референдум, по сути, минимизирует
репрезентацию массы: не масса
самовыражается, а ее исследуют; не
масса рефлектирует, а ее тестируют.
Сводя содержание к контролируемым
битам, к регулируемой бинарной
оппозиции (вспомним знаменитое
"да-да-нет-да", повторяемое как
заклинание в апреле 1993 г.;
голосовавшим даже не надо было
знать вопросы), т.е. фактически - к
ультиматуму, референдум симулирует
референта. Вернее, скрывает его
отсутствие.
Кризис
репрезентации (не только
политического представительства
электората, но и репрезентации
массы как таковой) проявляется
сегодня и в форме небывалого
распространения референдумов. За
несколько лет внедрив такой
опробованный метод симуляции, как
тестирование и социологические
опросы (которые нейтрализуют
значение, сводя его к квантуемым
количествам информации, двоичному
коду, к простейшей модели
"вопрос-ответ", пародирующей
бихевиористскую
"стимул-реакция": вопрос
поглощает - или предвосхищает, или
придумывает, или симулирует ответ (57)), советский дискурс возвел его
в основополагающий политический
принцип. К референдумам прибегают
власти всех уровней: СССР
(референдум о судьбе Союза, март 1991
г.), России (референдумы апреля и
декабря 1993 г.), республик и областей
(в основном референдумы о
независимости), более мелких
административных единиц (города и
т.д.). Под личиной предельной
демократичности (плебисцит! вече!)
референдум, по сути, минимизирует
репрезентацию массы: не масса
самовыражается, а ее исследуют; не
масса рефлектирует, а ее тестируют.
Сводя содержание к контролируемым
битам, к регулируемой бинарной
оппозиции (вспомним знаменитое
"да-да-нет-да", повторяемое как
заклинание в апреле 1993 г.;
голосовавшим даже не надо было
знать вопросы), т.е. фактически - к
ультиматуму, референдум симулирует
референта. Вернее, скрывает его
отсутствие.
![]() В целом в
современной России можно ставить
под сомнение репрезентативность
большей части общесоциумных
знаков. Симулятивность языка
идеологии, которая по-прежнему
следует правилу символического
обмена, знаковой игры: к примеру,
триада
"законодательная-исполнительная-судебная"
мало чем отличается от
"православия-самодержавия-народности",
"ума-чести-совести" или троицы
"Ленин! Партия! Ком-со-мол!" (58). Прежними остались и методы
идеологической симуляции
(например, вовлечение православия в
дискурс советской власти наподобие
того, что имело место в 1940-х), и
принцип экспонирования
идеологических символов
(восстановление храма Христа
Спасителя).
В целом в
современной России можно ставить
под сомнение репрезентативность
большей части общесоциумных
знаков. Симулятивность языка
идеологии, которая по-прежнему
следует правилу символического
обмена, знаковой игры: к примеру,
триада
"законодательная-исполнительная-судебная"
мало чем отличается от
"православия-самодержавия-народности",
"ума-чести-совести" или троицы
"Ленин! Партия! Ком-со-мол!" (58). Прежними остались и методы
идеологической симуляции
(например, вовлечение православия в
дискурс советской власти наподобие
того, что имело место в 1940-х), и
принцип экспонирования
идеологических символов
(восстановление храма Христа
Спасителя).
![]() Симулятивность
дискурса экономики: лавинообразное
введение рыночных означающих,
гиперреализация рынка были, как
говорилось выше, попыткой избежать
его, сохранить прежний способ
симуляции - социалистический
индустриальный потлач.
"Вхождение России в рынок"
совершилось на предельном уровне
абстракции, в формах, к которым
западная экономика шла столетиями:
биржи, банки, финансовый капитал,
ценные бумаги, валютные спекуляции.
Не случайно единственной в
новейшей российской истории
рыночной стратегией, проводившейся
в течение нескольких недель 1992 г.,
был монетаризм. Как утверждает
Джордж Сорос в "Алхимии
финансов", монетарный знак
достаточно симулятивен даже в
условиях развитого рынка; что же
говорить о России, где монетарные
означающие были введены в дискурс
экономики в отсутствие какого бы то
ни было рынка (в том числе
денежного)?
Симулятивность
дискурса экономики: лавинообразное
введение рыночных означающих,
гиперреализация рынка были, как
говорилось выше, попыткой избежать
его, сохранить прежний способ
симуляции - социалистический
индустриальный потлач.
"Вхождение России в рынок"
совершилось на предельном уровне
абстракции, в формах, к которым
западная экономика шла столетиями:
биржи, банки, финансовый капитал,
ценные бумаги, валютные спекуляции.
Не случайно единственной в
новейшей российской истории
рыночной стратегией, проводившейся
в течение нескольких недель 1992 г.,
был монетаризм. Как утверждает
Джордж Сорос в "Алхимии
финансов", монетарный знак
достаточно симулятивен даже в
условиях развитого рынка; что же
говорить о России, где монетарные
означающие были введены в дискурс
экономики в отсутствие какого бы то
ни было рынка (в том числе
денежного)?
![]() Отношение
большинства населения к рынку
является сугубо игровым: люди
депонируют акции, спорят о
фьючерсном долларе, ночами пишутся
в очередях, чтобы сдать деньги под
проценты, хотя большей их части эта
деятельность принесет ничтожную
прибыль или даже оставит в убытке.
На основе рыночных и сопутствующих
им означающих сложилась
квазимифология, в которой
фигурируют культурные герои (они же
трикстеры): банкиры, бизнесмены,
дилеры, брокеры, риэлторы - и силы
зла: рэкетиры, братва, авторитеты,
"бригадиры" с их разборками,
разводками, пробивками, наездами. В
нижней части мира помещено
хтоническое чудовище под названием
"мафия" (в символике спрута
есть нечто и от Мирового змея) (59). Вообще большинство новых
рыночных терминов в советском
дискурсе оторваны от своего
значения: чего стоят
многочисленные народные
предприятия, подчас торгующие
воздухом ("вентиляторы"), - МП,
ИЧП, АООТ, АОЗТ, ТОО, ООО...
Регистрация за сутки, бланки и
печати за два часа. Аббревиатуры
пусты и полностью взаимозаменяемы,
их значение стремится к нулю (ООО).
Впрочем, и названия крупных
рыночных структур часто стремятся
(может быть, и неосознанно) скрыть,
затуманить смысл, подобно
громоздким бюрократическим
аббревиатурам раннесоветского
периода. Слово "Менатеп"
(Межбанковское объединение
научно-технического прогресса), в
один осенний день появившееся на
московских улицах и дверцах такси,
озадачивало обывателя, наверное, не
меньше, чем в свое время
"Коминтерн".
Отношение
большинства населения к рынку
является сугубо игровым: люди
депонируют акции, спорят о
фьючерсном долларе, ночами пишутся
в очередях, чтобы сдать деньги под
проценты, хотя большей их части эта
деятельность принесет ничтожную
прибыль или даже оставит в убытке.
На основе рыночных и сопутствующих
им означающих сложилась
квазимифология, в которой
фигурируют культурные герои (они же
трикстеры): банкиры, бизнесмены,
дилеры, брокеры, риэлторы - и силы
зла: рэкетиры, братва, авторитеты,
"бригадиры" с их разборками,
разводками, пробивками, наездами. В
нижней части мира помещено
хтоническое чудовище под названием
"мафия" (в символике спрута
есть нечто и от Мирового змея) (59). Вообще большинство новых
рыночных терминов в советском
дискурсе оторваны от своего
значения: чего стоят
многочисленные народные
предприятия, подчас торгующие
воздухом ("вентиляторы"), - МП,
ИЧП, АООТ, АОЗТ, ТОО, ООО...
Регистрация за сутки, бланки и
печати за два часа. Аббревиатуры
пусты и полностью взаимозаменяемы,
их значение стремится к нулю (ООО).
Впрочем, и названия крупных
рыночных структур часто стремятся
(может быть, и неосознанно) скрыть,
затуманить смысл, подобно
громоздким бюрократическим
аббревиатурам раннесоветского
периода. Слово "Менатеп"
(Межбанковское объединение
научно-технического прогресса), в
один осенний день появившееся на
московских улицах и дверцах такси,
озадачивало обывателя, наверное, не
меньше, чем в свое время
"Коминтерн".
![]() Если лицевая
сторона экономического дискурса -
это знаки рынка, то его оборотная
сторона - это старые означающие
советского символического
производства (индустриального
потлача). Именно оттуда идут такие
знаки, как "кризис неплатежей",
"падение производства",
"задержка зарплаты", "угроза
массовой безработицы",
"забастовка горняков",
легитимирующие и поддерживающие на
плаву эту символическую экономику:
от симуляции предмета к симуляции
его кризиса. В дискурсе экономики
уже сформировался ряд знаковых
оппозиций, составленных из старых и
новых означающих (например,
"госзаказ-маркетинг"),
наподобие оппозиции
"коммунист-демократ" в
дискурсе политическом. И уже
неважно, что в сегодняшней ситуации
ни госзаказ, ни маркетинг не
являются экономически реальными,
референтными: бинарная оппозиция
снимает вопрос о
репрезентативности каждого из ее
членов, подменяя его игрой знаков.
Если лицевая
сторона экономического дискурса -
это знаки рынка, то его оборотная
сторона - это старые означающие
советского символического
производства (индустриального
потлача). Именно оттуда идут такие
знаки, как "кризис неплатежей",
"падение производства",
"задержка зарплаты", "угроза
массовой безработицы",
"забастовка горняков",
легитимирующие и поддерживающие на
плаву эту символическую экономику:
от симуляции предмета к симуляции
его кризиса. В дискурсе экономики
уже сформировался ряд знаковых
оппозиций, составленных из старых и
новых означающих (например,
"госзаказ-маркетинг"),
наподобие оппозиции
"коммунист-демократ" в
дискурсе политическом. И уже
неважно, что в сегодняшней ситуации
ни госзаказ, ни маркетинг не
являются экономически реальными,
референтными: бинарная оппозиция
снимает вопрос о
репрезентативности каждого из ее
членов, подменяя его игрой знаков.
![]() Симулятивность
дискурса прессы: в последние годы
на телевидении, радио, в изданиях,
доминирующих на печатном рынке,
сложился особый язык, поднявший и
актуализировавший локальные
речевые пласты - эмансипированные,
либеральные, вестернизованные,
городские, включая молодежную феню,
"стеб" и "чернуху".
Безусловно, это язык живой,
динамичный (порой агрессивный), но
это речь нескольких процентов
населения, претендующая на
всеобщность - и симулирующая
всеобщность. По своей условности,
эзотеричности и нереферентности
современный дискурс прессы чем-то
напоминает язык жрецов в
передовицах "Правды".
Симулятивность
дискурса прессы: в последние годы
на телевидении, радио, в изданиях,
доминирующих на печатном рынке,
сложился особый язык, поднявший и
актуализировавший локальные
речевые пласты - эмансипированные,
либеральные, вестернизованные,
городские, включая молодежную феню,
"стеб" и "чернуху".
Безусловно, это язык живой,
динамичный (порой агрессивный), но
это речь нескольких процентов
населения, претендующая на
всеобщность - и симулирующая
всеобщность. По своей условности,
эзотеричности и нереферентности
современный дискурс прессы чем-то
напоминает язык жрецов в
передовицах "Правды".
![]() Как, впрочем, и
реклама (60), недалеко ушедшая от
трогательного советского
"Летайте самолетами
Аэрофлота". На смену невесомости,
необязательности советской
рекламы ("Книга - лучший
подарок", "Храните сбережения
путем перечисления" и т.п.) пришла
грубая симулятивность современной
российской рекламы. Абсолютное
большинство рекламируемых сегодня
товаров и услуг потребляются в
образе, в слове (продолжение
отечественной традиции кормления
речью - вспомним того же "петуха в
вине" с ВДНХ), а в некоторых
случаях отсутствует и референт
рекламного текста.
Как, впрочем, и
реклама (60), недалеко ушедшая от
трогательного советского
"Летайте самолетами
Аэрофлота". На смену невесомости,
необязательности советской
рекламы ("Книга - лучший
подарок", "Храните сбережения
путем перечисления" и т.п.) пришла
грубая симулятивность современной
российской рекламы. Абсолютное
большинство рекламируемых сегодня
товаров и услуг потребляются в
образе, в слове (продолжение
отечественной традиции кормления
речью - вспомним того же "петуха в
вине" с ВДНХ), а в некоторых
случаях отсутствует и референт
рекламного текста.
![]() Сюжет первый: на
экране крупным планом тяжело
дышащая собака. За десять секунд
рекламного ролика ровным счетом
ничего не происходит.
Сюжет первый: на
экране крупным планом тяжело
дышащая собака. За десять секунд
рекламного ролика ровным счетом
ничего не происходит.
![]() Сюжет второй: на
экране доска со словом Suprimex.
Откуда-то прилетает дрель,
высверливает в доске две дырки,
кто-то из-за кадра сдувает опилки и
произносит: "Супримекс".
Сюжет второй: на
экране доска со словом Suprimex.
Откуда-то прилетает дрель,
высверливает в доске две дырки,
кто-то из-за кадра сдувает опилки и
произносит: "Супримекс".
![]() В обоих случаях
не дается никаких объяснений; и
собака, и Супримекс превращаются из
знаков в абстрактные коды, которые
функционируют в массовом сознании
в качестве символов новой,
необъяснимой (следовательно,
необоримой) реальности (61).
Символы новой России?
В обоих случаях
не дается никаких объяснений; и
собака, и Супримекс превращаются из
знаков в абстрактные коды, которые
функционируют в массовом сознании
в качестве символов новой,
необъяснимой (следовательно,
необоримой) реальности (61).
Символы новой России?
![]() Тогда уж скорее
МММ. Кстати: что значит эта
аббревиатура? Смысл знака сокрыт,
хотя он и вызывает некоторые
ассоциации. Фонетические - с
сакральными тройными
аллитерациями типа СССР,
графические - с кремлевскими
зубчиками.
Тогда уж скорее
МММ. Кстати: что значит эта
аббревиатура? Смысл знака сокрыт,
хотя он и вызывает некоторые
ассоциации. Фонетические - с
сакральными тройными
аллитерациями типа СССР,
графические - с кремлевскими
зубчиками.
![]() Заключение: как всегда - о
постмодерне
Заключение: как всегда - о
постмодерне
![]() А вот о
постмодерне мы как раз и не
говорили. Мы его берегли, лелеяли, с
трудом сдерживались, чтобы не
употребить в дело. Но вот пришло
время, и надо слово выпускать. Пусть
гуляет.
А вот о
постмодерне мы как раз и не
говорили. Мы его берегли, лелеяли, с
трудом сдерживались, чтобы не
употребить в дело. Но вот пришло
время, и надо слово выпускать. Пусть
гуляет.
![]() Ведь можно было -
с первых строк. Советский дискурс
изначально был интертекстуальным;
СССР явился не модернистским
(авангардистским), как казалось, а
сугубо постмодернистским
экспериментом по взаимодействию
текста и реальности. Осуществляя
деконструкцию, симуляцию, позже -
стратегию соблазна, власть
занималась чисто знаковой
деятельностью, которая требует
описания прежде всего в
постструктуралистских терминах. Но
СССР как постмодернистский текст
(еще раз подчеркнем, что он включает
в себя и "постсоветскую
Россию") должен быть и
отрефлектирован в терминах
постмодерна.
Ведь можно было -
с первых строк. Советский дискурс
изначально был интертекстуальным;
СССР явился не модернистским
(авангардистским), как казалось, а
сугубо постмодернистским
экспериментом по взаимодействию
текста и реальности. Осуществляя
деконструкцию, симуляцию, позже -
стратегию соблазна, власть
занималась чисто знаковой
деятельностью, которая требует
описания прежде всего в
постструктуралистских терминах. Но
СССР как постмодернистский текст
(еще раз подчеркнем, что он включает
в себя и "постсоветскую
Россию") должен быть и
отрефлектирован в терминах
постмодерна.
![]() Не намечен ли
здесь выход из тотальной
текстуальности, сплошной
знаковости, из порочного круга
симуляции? Устранив
внедискурсивные предпосылки языка,
власть осуществила авторитарную
нерефлексивную деконструкцию, и
ответом может быть деконструкция
осознанная, деконструкция как акт
постмодернистской рефлексии. По
выражению Дж.Х.Миллера,
"деконструкция - это не демонтаж
структуры текста, а демонстрация
того, что уже демонтировано" (62). Деконструкция как признание
символизма знаков, как признание
нереальности (гиперреальности),
бессодержательности окружающих
нас форм, понятий и институтов. Как
путь в ту сторону, где, судя по
голосам, стоят существа, подобные
нам.
Не намечен ли
здесь выход из тотальной
текстуальности, сплошной
знаковости, из порочного круга
симуляции? Устранив
внедискурсивные предпосылки языка,
власть осуществила авторитарную
нерефлексивную деконструкцию, и
ответом может быть деконструкция
осознанная, деконструкция как акт
постмодернистской рефлексии. По
выражению Дж.Х.Миллера,
"деконструкция - это не демонтаж
структуры текста, а демонстрация
того, что уже демонтировано" (62). Деконструкция как признание
символизма знаков, как признание
нереальности (гиперреальности),
бессодержательности окружающих
нас форм, понятий и институтов. Как
путь в ту сторону, где, судя по
голосам, стоят существа, подобные
нам.
![]() Деконструкция
деконструкции - путь к
реконструкции реальности? Разборка
экстатической культуры ведет к
воссозданию культуры обеспеченной (63). Постмодернистская
деконструкция сопоставима с
психоаналитическим анамнезом,
"переработкой первозабытого"
(Ж.-Ф. Лиотар), давней травмы (64). В этом процессе реальность,
вытесненная авторитарными знаками
(в том числе вытесненная во
фрейдовском смысле), возвращается
вместе с принципом репрезентации:
коды и символы уступают место
обеспеченным, референтным знакам.
Деконструкция
деконструкции - путь к
реконструкции реальности? Разборка
экстатической культуры ведет к
воссозданию культуры обеспеченной (63). Постмодернистская
деконструкция сопоставима с
психоаналитическим анамнезом,
"переработкой первозабытого"
(Ж.-Ф. Лиотар), давней травмы (64). В этом процессе реальность,
вытесненная авторитарными знаками
(в том числе вытесненная во
фрейдовском смысле), возвращается
вместе с принципом репрезентации:
коды и символы уступают место
обеспеченным, референтным знакам.
![]() Если брать
дерридеанское понимание
деконструкции, то она есть прежде
всего критический анализ бинарных
оппозиций, направленный не на то,
чтобы поменять местами ценности
оппозиции, а скорее на то, чтобы
нарушить или уничтожить их
противостояние, релятивизовав их
отношения (65). Именно такая
деконструкция может быть применена
в современной России, где власть
симуляции осуществляется за счет
выстраивания бинарных
семиотических моделей. Прежде
всего оппозиция "СССР-Россия":
мнимое противоречие, псевдовыбор,
ловкий ход, благодаря которому
продолжается воспроизведение
советского дискурса.
Если брать
дерридеанское понимание
деконструкции, то она есть прежде
всего критический анализ бинарных
оппозиций, направленный не на то,
чтобы поменять местами ценности
оппозиции, а скорее на то, чтобы
нарушить или уничтожить их
противостояние, релятивизовав их
отношения (65). Именно такая
деконструкция может быть применена
в современной России, где власть
симуляции осуществляется за счет
выстраивания бинарных
семиотических моделей. Прежде
всего оппозиция "СССР-Россия":
мнимое противоречие, псевдовыбор,
ловкий ход, благодаря которому
продолжается воспроизведение
советского дискурса.
![]() Более
примитивные оппозиции, производные
от "СССР-Россия"
(социализм-капитализм (66),
тоталитаризм-демократия,
план-рынок и др.), сменяются новыми:
космополитизм (мондиализм) -
национализм (патриотизм),
сепаратизм-централизм,
монетаризм-кейнсианство,
атлантизм-евразийство,
президентский режим -
парламентский
режим, самоопределение -
нерушимость границ и пр. Не
случайно Лотман в свой последней
работе "Культура и взрыв"
причисляет Россию к
тому культурному типу, для
которого характерны бинарные
структуры (67): бинарность
мышления, мнимая альтернативность,
а по сути ультимативность выбора
(или - или) существенно сужают
семиотическое поле современной
России, подрывают саму возможность
выхода и выбора.
Более
примитивные оппозиции, производные
от "СССР-Россия"
(социализм-капитализм (66),
тоталитаризм-демократия,
план-рынок и др.), сменяются новыми:
космополитизм (мондиализм) -
национализм (патриотизм),
сепаратизм-централизм,
монетаризм-кейнсианство,
атлантизм-евразийство,
президентский режим -
парламентский
режим, самоопределение -
нерушимость границ и пр. Не
случайно Лотман в свой последней
работе "Культура и взрыв"
причисляет Россию к
тому культурному типу, для
которого характерны бинарные
структуры (67): бинарность
мышления, мнимая альтернативность,
а по сути ультимативность выбора
(или - или) существенно сужают
семиотическое поле современной
России, подрывают саму возможность
выхода и выбора.
![]() Не выбор, а взрыв.
Согласно Лотману, бинарные
структуры обречены на
катастрофическое решение
конфликтов, их крайние члены
запрограммированы на
взаимоуничтожение, на взрыв "до
основания". Сам переход от
"старого" к "новому"
мыслится во взрывных терминах
бинаризма (68). Двоичный
символический обмен
"СССР-Россия" не может
продолжаться до бесконечности,
подменяя материальную эксплозию
знаковой имплозией. На этом пути
всамделишный взрыв неизбежен.
Поэтому постмодернистская
деконструкция ищет выхода вне
известных символических форм, вне
звонких бинарных оппозиций - не
столько в третьем, сколько в ином.
Не выбор, а взрыв.
Согласно Лотману, бинарные
структуры обречены на
катастрофическое решение
конфликтов, их крайние члены
запрограммированы на
взаимоуничтожение, на взрыв "до
основания". Сам переход от
"старого" к "новому"
мыслится во взрывных терминах
бинаризма (68). Двоичный
символический обмен
"СССР-Россия" не может
продолжаться до бесконечности,
подменяя материальную эксплозию
знаковой имплозией. На этом пути
всамделишный взрыв неизбежен.
Поэтому постмодернистская
деконструкция ищет выхода вне
известных символических форм, вне
звонких бинарных оппозиций - не
столько в третьем, сколько в ином.
![]() В этом контексте
деконструкция - акт прежде всего
эстетический - выходит в сферу
политики. По Деррида, деконструкция
затрагивает не только дискурсы или
означающие репрезентации (т.е.
вторичные моделирующие системы:
искусство, эпистемы, философемы,
социологемы), но и основополагающие
структуры, материальные институты (69). "Именно потому, что она
никогда не ставит в центр внимания
лишь означаемое содержание,
деконструкция, неотделимая от
политико-институциональ-ной
проблематики, должна <...>
исследовать те коды, которые были
восприняты от этики и политики" (70). Это тем более справедливо в
обществе, где эстетика стала
политикой: в рамках советского
дискурса постмодернистская
деконструкция неизбежно
становится политическим
инструментом.
В этом контексте
деконструкция - акт прежде всего
эстетический - выходит в сферу
политики. По Деррида, деконструкция
затрагивает не только дискурсы или
означающие репрезентации (т.е.
вторичные моделирующие системы:
искусство, эпистемы, философемы,
социологемы), но и основополагающие
структуры, материальные институты (69). "Именно потому, что она
никогда не ставит в центр внимания
лишь означаемое содержание,
деконструкция, неотделимая от
политико-институциональ-ной
проблематики, должна <...>
исследовать те коды, которые были
восприняты от этики и политики" (70). Это тем более справедливо в
обществе, где эстетика стала
политикой: в рамках советского
дискурса постмодернистская
деконструкция неизбежно
становится политическим
инструментом.
![]() Притом сам
постмодерн не обладает
политическими интенциями.
Постмодернизм - не метод, не
стратегия, не идеология; в нашем
контексте вернее всего будет
определить его как определенную
ситуацию культуры и
соответствующее ей ментальное
состояние общества, (71) как
неавторитарную парадигму, которой
свойственно игровое отношение к
языковому знаку (72). Способность
видеть шаткость, валкость,
неустойчивость привычных форм,
осознавать парадоксальность
сакрального. Ирония, но еще более
самоирония; пародия - и самопародия.
На игру знаков власти - ответить
собственной игрой с этими знаками,
игрой без правил, игрой со смыслами,
с подначкой. Может быть, просто
засмеяться.
Притом сам
постмодерн не обладает
политическими интенциями.
Постмодернизм - не метод, не
стратегия, не идеология; в нашем
контексте вернее всего будет
определить его как определенную
ситуацию культуры и
соответствующее ей ментальное
состояние общества, (71) как
неавторитарную парадигму, которой
свойственно игровое отношение к
языковому знаку (72). Способность
видеть шаткость, валкость,
неустойчивость привычных форм,
осознавать парадоксальность
сакрального. Ирония, но еще более
самоирония; пародия - и самопародия.
На игру знаков власти - ответить
собственной игрой с этими знаками,
игрой без правил, игрой со смыслами,
с подначкой. Может быть, просто
засмеяться.
![]() Два языка
существует в русской традиции. Один
- язык священных знаков, будь то
церковнославянский, петровский
канцелярит, советский новояз или
горбачевский лексикон. Язык
миметический, воспринимающий знак
как выражение Откровения, язык
Истины, Добра и Красоты. Другой - язык
смеховой: язык скоморохов, лубка
и анекдота; язык юродивых. Именно
эта смеховая парадигма может стать
основой для постмодернистской
деконструкции:
Два языка
существует в русской традиции. Один
- язык священных знаков, будь то
церковнославянский, петровский
канцелярит, советский новояз или
горбачевский лексикон. Язык
миметический, воспринимающий знак
как выражение Откровения, язык
Истины, Добра и Красоты. Другой - язык
смеховой: язык скоморохов, лубка
и анекдота; язык юродивых. Именно
эта смеховая парадигма может стать
основой для постмодернистской
деконструкции:
![]() Ветвь русского
юродства, особого
"постмодернистского" взгляда
на знаки культуры, многократно
усиленная Достоевским, в этом
столетии была продолжена Ремизовым
и Розановым, а в наши дни -
Венедиктом Ерофеевым (74). Оба
его альтер эго - Веничка из поэмы
"Москва-Петушки" и Лев Гуревич
из "Вальпургиевой ночи" -
осуществляют классическую
деконструкцию советского дискурса (75), причем если первый обнажает
трагическую нереальность всех
дискурсов сразу, то во втором
случае деконструкция гораздо более
сфокусирована. Следуя заветам
Буало, автор соблюдает три единства
классической драмы: единство места
(особая модель советского
пространства: палата психушки с
властью в лице врачей и санитаров),
единство времени (особая точка
советского времени: канун Первого
мая) и единство действия (особое
советское действо: предпраздничная
пьянка; пьет медперсонал в
ординаторской, пьют больные в
палате) - и в этом локализованном
пространстве/времени шутовское,
поэтичное слово Гуревича разрушает
советский дискурс, инверсирует его
знаки и речевые акты (предсмертные
слова и действия обитателей палаты
обратны их репликам и поступкам в
начале пьесы). Естественно, что в
этой борьбе со знаками герои
погибают сами: месть развенчанного
текста. Веничкина апокалиптическая
четверка убийц "с налетом чего-то
классического" столь же
безлично-символична, как и санитар
Боря-Мордоворот, добивающий
Гуревича (76).
Ветвь русского
юродства, особого
"постмодернистского" взгляда
на знаки культуры, многократно
усиленная Достоевским, в этом
столетии была продолжена Ремизовым
и Розановым, а в наши дни -
Венедиктом Ерофеевым (74). Оба
его альтер эго - Веничка из поэмы
"Москва-Петушки" и Лев Гуревич
из "Вальпургиевой ночи" -
осуществляют классическую
деконструкцию советского дискурса (75), причем если первый обнажает
трагическую нереальность всех
дискурсов сразу, то во втором
случае деконструкция гораздо более
сфокусирована. Следуя заветам
Буало, автор соблюдает три единства
классической драмы: единство места
(особая модель советского
пространства: палата психушки с
властью в лице врачей и санитаров),
единство времени (особая точка
советского времени: канун Первого
мая) и единство действия (особое
советское действо: предпраздничная
пьянка; пьет медперсонал в
ординаторской, пьют больные в
палате) - и в этом локализованном
пространстве/времени шутовское,
поэтичное слово Гуревича разрушает
советский дискурс, инверсирует его
знаки и речевые акты (предсмертные
слова и действия обитателей палаты
обратны их репликам и поступкам в
начале пьесы). Естественно, что в
этой борьбе со знаками герои
погибают сами: месть развенчанного
текста. Веничкина апокалиптическая
четверка убийц "с налетом чего-то
классического" столь же
безлично-символична, как и санитар
Боря-Мордоворот, добивающий
Гуревича (76).
![]() "Современное
иконоборческое юродство"
(Фришман), естественно, не
исчерпывается одним Вен. Ерофеевым,
можно назвать десятки имен в
литературе, живописи, музыке
(полистилистика Шнитке). Не
исчерпывается оно и сферой
искусства. В тотально эстетичном,
текстуальном пространстве
СССР/России деконструкция может
осуществиться в любой сфере,
включая чисто политическую;
примером тому феномен Владимира
Жириновского.
"Современное
иконоборческое юродство"
(Фришман), естественно, не
исчерпывается одним Вен. Ерофеевым,
можно назвать десятки имен в
литературе, живописи, музыке
(полистилистика Шнитке). Не
исчерпывается оно и сферой
искусства. В тотально эстетичном,
текстуальном пространстве
СССР/России деконструкция может
осуществиться в любой сфере,
включая чисто политическую;
примером тому феномен Владимира
Жириновского.
![]() Притягательность
Жириновского (и функциональность в
общественном сознании) - в его
юродстве (уродстве), в игровом
отношении к привычным понятиям,
символам и функциям. Его стихия -
смех, пародия, гротеск. Прежде чем
быть аррогантным, неуправляемым,
угрожающим, страшным, "русским
Гитлером" и пр., Жириновский
смешон. Работая на свой шутейный
имидж, он непрерывно (и вполне
расчетливо) пародирует себя самого.
Но, высмеивая себя, он высмеивает и
власть, сам принцип власти, ибо он
есть не кто иной как победитель
последних парламентских выборов.
Притягательность
Жириновского (и функциональность в
общественном сознании) - в его
юродстве (уродстве), в игровом
отношении к привычным понятиям,
символам и функциям. Его стихия -
смех, пародия, гротеск. Прежде чем
быть аррогантным, неуправляемым,
угрожающим, страшным, "русским
Гитлером" и пр., Жириновский
смешон. Работая на свой шутейный
имидж, он непрерывно (и вполне
расчетливо) пародирует себя самого.
Но, высмеивая себя, он высмеивает и
власть, сам принцип власти, ибо он
есть не кто иной как победитель
последних парламентских выборов.
![]() Жириновский
деконструирует дискурс власти
изнутри, с позиции власти. Вот уже
который год он держится на плаву
именно за счет разрушения,
десакрализации знаков. 1991 год,
президентские выборы. Ельцин и
Рыжков взывают к великим теням:
Россия, демократия, завоевания
социализма... Жириновский обещает
дешевую водку - и берет 6 миллионов
голосов. Берет именно за счет
опошления, принижения,
развенчивания принципов
предвыборной борьбы. Та же история
повторяется на парламентских
выборах 1993 г. Когда любой кандидат
говорит о "великой России", то
делает это с приличествующей долей
уважения и гражданского чувства;
избиратели привычно пропускают его
речения мимо ушей - и благодаря
тому, что обе стороны соблюдают
некий знаковый этикет, симуляция
живет (и побеждает). Жириновский же
доводит идею "великой России"
до призыва к реконкисте Аляски и к
омовению сапог в Индийском океане,
т.е. до абсурда, до самоотрицания.
Нарушая чувство меры, этикет, он
разрушает привычную среду
функционирования знака, сам
принцип символического обмена.
Голосуя за Жириновского,
избиратели не высказывались против
"обнищания масс", "унижения
России", как уверяют
отечественные комментаторы. И
вовсе не за "великую Россию" от
Анкориджа до чуркистана, как
чистосердечно испугались на
Западе. Выбирая пародийную
"великую Россию" в варианте
Жириновского, люди голосовали
скорее против великодержавной
риторики. Против власти симуляции,
представленной одновременно
Гайдаром и Зюгановым (77).
Жириновский
деконструирует дискурс власти
изнутри, с позиции власти. Вот уже
который год он держится на плаву
именно за счет разрушения,
десакрализации знаков. 1991 год,
президентские выборы. Ельцин и
Рыжков взывают к великим теням:
Россия, демократия, завоевания
социализма... Жириновский обещает
дешевую водку - и берет 6 миллионов
голосов. Берет именно за счет
опошления, принижения,
развенчивания принципов
предвыборной борьбы. Та же история
повторяется на парламентских
выборах 1993 г. Когда любой кандидат
говорит о "великой России", то
делает это с приличествующей долей
уважения и гражданского чувства;
избиратели привычно пропускают его
речения мимо ушей - и благодаря
тому, что обе стороны соблюдают
некий знаковый этикет, симуляция
живет (и побеждает). Жириновский же
доводит идею "великой России"
до призыва к реконкисте Аляски и к
омовению сапог в Индийском океане,
т.е. до абсурда, до самоотрицания.
Нарушая чувство меры, этикет, он
разрушает привычную среду
функционирования знака, сам
принцип символического обмена.
Голосуя за Жириновского,
избиратели не высказывались против
"обнищания масс", "унижения
России", как уверяют
отечественные комментаторы. И
вовсе не за "великую Россию" от
Анкориджа до чуркистана, как
чистосердечно испугались на
Западе. Выбирая пародийную
"великую Россию" в варианте
Жириновского, люди голосовали
скорее против великодержавной
риторики. Против власти симуляции,
представленной одновременно
Гайдаром и Зюгановым (77).
![]() Главное в
поведении нашего героя - игровая
свобода, непредсказуемость жеста.
Его политические акты стоят в одном
ряду с предложениями Дмитрия
Александровича Пригова избирать
президента России из числа
взрослого населения страны путем
метания костей или - в более
институционализованной форме - с
деятельностью Партии любителей
пива, идущей на выборы под
лозунгами "Больше пива - меньше
слез" и традиционным "Требуйте
долива после отстоя пены".
Владимир Жириновский первым из
действующих политиков овладел
постмодернистским искусством
жеста.
Главное в
поведении нашего героя - игровая
свобода, непредсказуемость жеста.
Его политические акты стоят в одном
ряду с предложениями Дмитрия
Александровича Пригова избирать
президента России из числа
взрослого населения страны путем
метания костей или - в более
институционализованной форме - с
деятельностью Партии любителей
пива, идущей на выборы под
лозунгами "Больше пива - меньше
слез" и традиционным "Требуйте
долива после отстоя пены".
Владимир Жириновский первым из
действующих политиков овладел
постмодернистским искусством
жеста.
![]() Общий
знаменатель всех этих попыток
деконструкции - в литературе,
живописи, политике - игра. Игра по
сути своей иконоборчество,
положение границ дискурса,
"способность культуры не видеть
в своих устремлениях нечто
предельное и высшее" (Хейзинга) (78). Игра - выход из дурной
бесконечности советского дискурса?
Общий
знаменатель всех этих попыток
деконструкции - в литературе,
живописи, политике - игра. Игра по
сути своей иконоборчество,
положение границ дискурса,
"способность культуры не видеть
в своих устремлениях нечто
предельное и высшее" (Хейзинга) (78). Игра - выход из дурной
бесконечности советского дискурса?
![]() Может быть. Как
знать. Нет постмодернистских путей
к спасению. Игра (и смеховой язык, и
юродство) - играет, она спонтанна,
неуловима, сиюминутна. Она не может
быть "путем", системой,
рецептом для больной культуры. Игра
- на грани.
Может быть. Как
знать. Нет постмодернистских путей
к спасению. Игра (и смеховой язык, и
юродство) - играет, она спонтанна,
неуловима, сиюминутна. Она не может
быть "путем", системой,
рецептом для больной культуры. Игра
- на грани.
![]() Из постмодерна
тоже не сотворить системы,
идеологии: попробуйте поймать
Протея (79). Постмодерн - абсолютная
обратимость, может быть, он в том и
состоит, чтобы не верить его
собственному знаку. Не доверять
слову как таковому: гамлетовское
words, words, words. Соборности и
духовности. Рынку и демократии.
Русской идее и европейскому дому.
Раскрытому тому Борхеса,
недочитанной смятой газете, тексту
под названием "СССР:
деконструкция текста". Долгим
ноябрьским сумеркам, незаметно
перешедшим в ночь.
Из постмодерна
тоже не сотворить системы,
идеологии: попробуйте поймать
Протея (79). Постмодерн - абсолютная
обратимость, может быть, он в том и
состоит, чтобы не верить его
собственному знаку. Не доверять
слову как таковому: гамлетовское
words, words, words. Соборности и
духовности. Рынку и демократии.
Русской идее и европейскому дому.
Раскрытому тому Борхеса,
недочитанной смятой газете, тексту
под названием "СССР:
деконструкция текста". Долгим
ноябрьским сумеркам, незаметно
перешедшим в ночь.
(1) "...Подавление многомерной шумовой фонограммы, акустической среды фильма идет параллельно акцентировке реплик персонажей, выделению диалога в процессе постстудийной синхронизации, то есть выделению словесно-литературного слоя" (Ямпольский Мих. Кино без кино. // Искусство кино, 1988, # 6. С. 90). Назад
(2) Рыклин Михаил. Террорологики. Тарту–Москва, 1992. C. 17. Назад
(3) Символика верстового столба сохранилась в советское и постсоветское время: ср. поэтику километровых столбов на БАМе, указывающих расстояние до Центрального почтамта в Москве, или недавнее водружение и освящение (!) до боли знакомого пограничного столба у Нарвы–Ивангoрода, на границе с чухной. Назад
(4) Ильин И.А. О России. Три речи, 1926–1933. София, 1934. С. 12–13. Назад
(5) Принцип репрезентации подразумевает, что знак эквивалентен реальности, беспрепятственно обменивается на реальность: свободно конвертируемый знак. На этом, в частности, основана классическая теория обозначения Соссюра: неразрывность означающего и означаемого, неотделимых друг от друга как две стороны бумажного листа. (См.: Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977. С. 145.) Соссюр также выделяет функциональный и структурный аспекты языка: подобно деньгам, каждый знак обладает потребительной стоимостью (т.е. обменивается на некоего реального референта) и меновой стоимостью (т.е. обменивается на другие знаки). Постструктуралисты же аннулируют потребительную стоимость знака, его репрезентативность, референтность, соотнесенность с реальностью – и выделяют только его меновую стоимость. Знак освобождается для целей символического обмена, симуляции, структурной и комбинаторной игры. Назад
(6) Barthes R. Leзon: Leзon inaugurale de la chaire de la semiologie litteraire au College de France prononcеe le 7 janvier 1977. P., 1978. P. 12. Назад
(7) Барт Р. Нулевая степень письма // Семиотика. М., 1983. С. 335. Назад
(8) О безличности и взаимозаменяемости этих "С" свидетельствует и такой опыт, поставленный пишущим эти строки в середине 80-х: в ответ на просьбу расшифровать сокращение ЧССР абсолютное большинство собеседников отвечали "Чехословацкая Советская Социалистическая Республика". Назад
(9) Ср. анекдот, в котором американцы, изучающие русскую речь, ищут, куда поставить в предложении "неопределенный артикль "бля". Назад
(10) См. рецензию С. Зенкина на цитируемую книгу М. Рыклина в "Новом литературном обозрении". М., 1994. # 7. С. 342. Назад
(11) Deleuze G. et Guattari F. Capitalisme et schizophrиnie. L'Anti-Oedipe. P., 1980. P. 98. Назад
(12) Рыклин. Указ. соч. С. 59. Назад
(13) Высказываний, а не предложений, речевых, а не лингвистических актов, согласно оппозиции Бахтина. Назад
(14) Рыклин. Указ. соч. С. 200. Назад
(15) См.: Волошинов В.Н. Марксизм и философия языка. Л., 1929. С. 20–21. Назад
(16) Рыклин. Указ. соч. С. 22. Назад
(17) Говоря о "советском дискурсе", мы понимаем дискурс скорее в постструктуралистском смысле, как "сцепление структур значения, обладающих собственными правилами комбинации и трансформации" (Coquet J.-C. Semiotique litteraire. P., 1978. P. 27–28). Более традиционная интерпретация дискурса как "речи, погруженной в жизнь", вряд ли применима к СССР, где речь интериоризует в себе жизнь, где оппозиции речи и жизни просто не существует, и "советский дискурс" превращается в плеоназм: "советское значит лучшее", советский значит дискурс. Назад
(18) Рыклин. С. 204–205. Назад
(19) Там же. С. 60. Назад
(20) Там же. С. 18. Назад
(21) Там же, С. 42, 85. Назад
(22) Ерофеев Венедикт. Москва–Петушки и пр. М., Прометей, 1989. С.26–27. Назад
(23) Ср. также "Доску почета" А.Петрова. Назад
(24) Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 384–391. Назад
(25) Рыклин. Указ. соч. С. 78. Назад
(26) Возможно, стремление убить в себе автора и стало неосознанной причиной личной трагедии поэта. Назад
(27) Barthes R. Leзon, P. 14. Назад
(28) Рыклин. Указ. соч. С. 17. Назад
(29) Ср. также идеи Эжена Коссерю о том, что именно поэтический язык (а советский дискурс принципиально поэтичен) является нормативным. Назад
(30) Рыклин. Указ. соч. С. 34–35. Назад
(31) Фришман А. Двуязычие и бинарность культуры // Независимая газета, 29 сентября 1994, С. 5. Назад
(32) В работе "Раскол и культурный конфликт" Борис Успенский показывает, что в культуре двуязычия Древней Руси церковнославянский язык воспринимался как средство выражения богооткровенной истины, т.е. как средство фиксации и выражения Откровения, но отнюдь не как средство коммуникации. Согласно Успенскому, в теологической теории языка, получившей распространение на Руси, церковнославянский понимался как система символического представления православного вероисповедания (т.е. на самом деле как икона православия), а не как одна из возможных систем передачи информации. Назад
(33) Рыклин. Указ. соч. С. 16, 66. Назад
(34) Подчеркнем особо: симуляция имеет мало общего с ложью, обманом, подлогом, "двойным стандартом" и прочими нравственными изъянами развитого социализма, отмечавшимися критиками советской системы. В отношении симуляции этические критерии неприменимы вообще. Можно было бы сказать, что "общечеловеческая мораль" является внедискурсивной, внешней по отношению к советскому тексту. Но в то же время существовала некая релятивная советская этика. Текстуальная этика. Так что справедливее следующее: в советском дискурсе этика является функцией особой тоталитарной эстетики; все текстуальное – нравственно. Назад
(35) Baudrillard Jean, Simulacra and Simulations. // Jean Baudrillard, Selected Writings. Stanford, 1988. P. 170. Назад
(36) Бодрийар намеренно сводит elleipsis (опущение) знака к ekleipsis (затмение) смысла. Назад
(37) Ср. книгу "Норма" Владимира Сорокина, где во второй части жизнь советского человека описана как последовательность из нескольких сотен существительных с эпитетом "нормальный": от "нормальных родов" до "нормальной смерти". (Владимир Сорокин. Норма. М., Obscuri Viri, 1994. С. 76–98). Назад
(38) В Чехословакии после 68-го г. это слово было использовано уже в качестве официального идеологического символа: гусаковский режим проводил т.н. "политику нормализации". Назад
(39) См.: Рыклин. Указ. соч. С. 201. В этой связи можно говорить и о феномене инкантации: так от повторения слова "халва" во рту становится слаще. Назад
(40) Ср. "Песнь о сервелате" Тимура Кибирова: "...символ // бесконечно прекрасный и столь же далекий // и единый для всех – это ты, колбаса!" (Кибиров Тимур. Сантименты. Белгород, 1994. С. 27). Назад
(41) Заметим попутно, что принцип экспонирования затрагивает и внешние аспекты советского дискурса, к примеру внешнюю политику. Международные отношения этого периода отличаются небывалой степенью фантомности, гиперреализации. Возникают гигантские симулякры "холодной войны", первого детанта и второй разрядки, хельсинкского процесса, "общеевропейского дома", наконец. Особенно наглядна симулятивность международных отношений этого периода в концепции ядерного сдерживания. Всем вовлеченным в него сторонам в большей или меньшей степени (и чем дальше, тем больше, особенно в 70 – 80-е годы) очевидно, что атомная война нереальна. Политика, однако, строится на ее допущении, т.е. на чисто знаковой предпосылке. Верхом гиперреализации стало понятие overkill, способности каждой из сторон несколько раз гарантированно уничтожить противника. Обладание подобным ядерным потенциалом абсурдно с точки зрения здравого смысла, но оправданно в терминах символического обмена. Ракеты сведены до роли нереферентных знаков, ядерное сдерживание – это война символов. Назад
(42) Трудно удержаться от сравнения в духе раннеперестроечной публицистики с обязательным Arbeit Мacht Frei на воротах гитлеровских концлагерей. Назад
(43) Рыклин. Указ. соч. С. 39, 78. Назад
(44) Там же. С. 90. Назад
(45) Там же. С. 91. Назад
(46) "Русь слиняла в два дня. Самое большее – в три. Даже "Новое время" нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь. Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до частностей <...> Не осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска. Что же осталось-то? Странным образом – буквально ничего. Остался подлый народ..." (Василий Розанов. "Апокалипсис нашего времени", 1918). Назад
(47) Бодрийар Жан. Фрагменты из книги "О соблазне" // Иностранная литература, 1994, #1. С. 63. Назад
(48) Бодрийар Жан. Из книги "О соблазне" // Сегодня, 10 сентября 1994, С. 13. Назад
(49) Ср.: Социолог Ги Дебор говорит об "обществе спектакля" (Debor Guy. Comments on the society of the spectacle. L., 1990). Назад
(50) Baudrillard Jean. Simulacra and Simulations // Baudrillard Jean. Selected Writings. Stanford, 1988. P. 178. Назад
(51) Вот ведь стыдливый эвфемизм – "события". Слово многозначное, амбивалентное, поливалентное. В нем уже заложена множественность интерпретаций. Интересно, что коммунистический переворот февраля 1948-го в Чехословакии также получил каноническое название ъnorove udбlosti –"февральские события". Назад
(52) Эта версия была предложена рядом газет. Назад
(53) Baudrillard J. Op. cit. P. 174–175. Назад
(54) Так, в романе "Сад расходящихся тропок" китайца Цюй Пэна стоящие перед выбором герои выбирают не одну, но разом все открывающиеся им возможности, тем самым творя различные будущие времена, которые, в свою очередь, множатся и ветвятся. То же, в сущности, делают актеры в российской политической игре, выбирающие разом взаимоисключающие варианты: ср. одновременное проведение инфляционной и дефляционной политики, одновременную поддержку Запада и сербов в Боснии и пр. Подобный выбор крайних членов оппозиции, свидетельствующий о его симулятивной природе, поддерживает напряжение в знаковом поле российской политики. Назад
(55) См: Baudrillard Jean. In the Shadow of the Silent Majorities. N.Y., 1983. P. 10. Назад
(56) Baudrillard Jean. Simulacra and Simulations // Baudrillard Jean. Selected Writings. Stanford, 1988. P. 179 – 180. Далее автор пишет: "В обществе без власти воцарится меланхолия; это уже породило фашизм, давший слишком сильную дозу референции обществу, которое не могло остановить своего плача по власти". (Ibid.). Назад
(57) Baudrillard Jean. Symbolic Exchange and Death // Baudrillard Jean. Selected Writings. Stanford, 1988. P. 142. Назад
(58) Бессмысленно сетовать на "идеологический кризис", "идеологический вакуум", постигший СССР или Россию то ли в 60-х, то ли в горбачевский, то ли в ельцинский период: идеологии не было и нет, речь может идти только о смене симуляционных парадигм и о частичной фрагментации пространства гиперреального: вместо одного большого симулякра – несколько и поменьше. Назад
(59) В пародийной форме эта
мифология уже регистрируется
современными художественными
текстами. См. "Пятую русскую
книгу для чтения" Владимира
Тучкова, стилизованную под
рассказы для детей Льва Толстого:
"Биржа широка и глубока; конца
бирже не видно. В бирже солнце
встает и в биржу садится. Дна биржи
никто не достал и не знает <...>
Кто на бирже не бывал, тот доллару
не маливался"...
"Были брат и сестра – Вася и Катя;
и у них была акция. Весной акция
пропала. Дети искали ее везде, но не
могли найти. Один раз они играли
подле банка и зашли в него. А там их
акция, и у нее дивиденды: такие
чудесные"...
"Голодный брокер разыскивал
добычу. И тут он услыхал – в одной
хрущобе плачет мальчик, и старуха
говорит:
– Не перестанешь плакать, я твой
ваучер брокеру отдам"... и т.д.
(Владимир Тучков. Пятая русская
книга для чтения: поучительные
истории, собранные близ метро
"Тульская" // Новое
литературное обозрение, М., 1994. # 6.
С. 261–270.) Назад
(60) Все сложнее отличить ее от прессы; распространение скрытой рекламы в печати и на ТВ ("джинса") ведет к слиянию обоих потоков масс-медиа. Назад
(61) Лишь месяцы или даже годы спустя выясняется, что собаку зовут Алиса и что она символизирует одноименную биржу, а "Супримекс" – это банк. Но контекст опоздал, референты опоздали: симуляция состоялась. Назад
(62) Miller J.H. Steven's "Rock" and criticism as cure: II. // Georgia rev. N.Y., 1976, Vol. 30, #2. P. 341. Назад
(63) Рыклин. Указ. соч. С. 89. Назад
(64) "Приставка "пост" в слове "постмодерн" <...> обозначает не движение типа come back, flash back, feed back, т.е. движение повторения, но некий "ана-процесс", процесс анализа, анамнеза, аналогии и анаморфозы, который перерабатывает нечто "первозабытое" (Ж.-Ф. Лиотар. Заметка о смыслах "пост". // Иностранная лиература, 1994, # 1, С. 59). Назад
(65) См: Easthope A. British Post-structuralism since 1968. L.–N.Y., 1988. P. 187–188. Назад
(66) Впрочем, и идея "третьего пути" не служит выходом из симуляции, так как, в свою очередь, является членом симулятивной оппозиции "самобытность России" – "копирование чужого опыта". Назад
(67) Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М., Гнозис. 1992. С. 257–260. Назад
(68) "Процесс, свидетелями которого мы являемся, можно описать как переключение с бинарной системы на тернарную. Однако нельзя не отметить своеобразие момента: сам переход мыслится в традиционных понятиях бинаризма. Фактически разрабатываются два возможных пути. Один, приведший Горбачева к реальной потере власти, заключался в замене реформ декларациями и планами и завел страну в тупик, чреватый самыми мрачными прогнозами. Другой, выражающийся в разнообразных планах вроде "500 дней" и других проектов скоростного преображения экономики, – выбивает клин клином, взрыв взрывом" (Лотман. Указ. соч. С. 264–265). Назад
(69) Derrida J. L'еcriture et differиnce. P., 1967. P. 23–24. Назад
(70) Derrida J. Psyche: Inventions de l'autre. P., 1987. P. 74. Назад
(71) Некоторые литературоведы и философы говорят об особой "постмодернистской чувствительности". (См.: Терминология современного зарубежного литературоведения. Страны Западной Европы и США. Вып. I: "Новая критика", структурализм, рецептивная эстетика, нарратология, деконструктивизм. М., ИНИОН, 1992. С. 132). Назад
(72) Фришман А. Двуязычие и бинарность культуры // Независимая газета, 29 сентября 1994. С. 5. Назад
(73) Липовецкий М. Апофеоз частиц, или Диалоги с хаосом // Знамя, 1992, # 8. С. 217. Назад
(74) Там же, С. 215. По этому же поводу Вайль выражается сентенцией: "Венедикт Ерофеев – это Василий Розанов, прошедший через Гитлера и Сталина". (Московские новости, # 2. 1994). Назад
(75) При этом нельзя писателя Вен. Ерофеева числить ни по политическому ведомству, ни по постмодернистскому. Диссидентом он не был, а поэма "Москва–Петушки" слишком необъятна (порой даже слишком классична и традиционна) для постмодернистского канона; это скорее Urtext современного российского литературного постмодерна. Назад
(76) В связи с Гуревичем можно также говорить о еврействе как специфической форме русского юродства. Еврействе не этническом, а функциональном (подобно тому как сам Гуревич работает "на должности татарина в хозмаге"), еврействе как своеобразной маргинальной позиции в культуре, еврействе как одной из форм "шизофренического дискурса", описанного Делезом и Гваттари. Назад
(77) Намеки на психическую неполноценность Жириновского также можно истолковать в постмодернистском смысле: в терминах Делеза–Гваттари он именно та "шизоидная личность", "социальный извращенец", маргинал, который обращается к "шизофреническому дискурсу" – языку, ставящему под вопрос общепринятую логику и каузальность [к примеру, в текстах Льюиса Кэрролла, Антонина Арто, Жоржа Батая, Скотта Фитцджеральда и др.]. (См.: Deleuze G. et Guattari F. Capitalisme et schizophrиnie. L'Anti-Oedipe. P., 1980). В этой же связи еще раз отметим, что еврейство (скрываемое: "сын юриста", но оттого тем более очевидное) является одной из форм "шизофренического дискурса". Назад
(78) Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992. С. 238. Назад
(79) Впрочем, пробуют; и вот уже у него в России лагерь сторонников и фронт противников, и ведутся регулярные бои, под шум которых постмодернизм вырастает до "общественнозначимого" символа, чуть не до альтернативной идеологии, и незаметно превращается в симулякр, выскальзывает из рук, твердо уверенных, что держат его. Назад
В начало
страницы
© С. Медведев, 1995
Иное. Хрестоматия
нового российского самосознания.
С. Медведев. СССР: деконструкция
текста. (К 77-летию советского
дискурса).
http://old.russ.ru/antolog/inoe/medved.htm/medved.htm