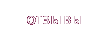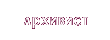|
 |
 Итак, троянцы подступили прямо к чернобоким ахейским кораблям. Они стремились сжечь суда, лишить Европу ее технических устройств и опрокинуть в невозвращение. Но им навстречу по полю уже бежали мирмидоняне - как свирепые осы, живущие близ дороги, которых привыкли тревожить дети, навлекая опасность на многих; и тогда крылатые, с бесстрашными сердцами, все высыпают они на защиту своих домов - так от своих кораблей уже бежали по полю мирмидоняне. Итак, троянцы подступили прямо к чернобоким ахейским кораблям. Они стремились сжечь суда, лишить Европу ее технических устройств и опрокинуть в невозвращение. Но им навстречу по полю уже бежали мирмидоняне - как свирепые осы, живущие близ дороги, которых привыкли тревожить дети, навлекая опасность на многих; и тогда крылатые, с бесстрашными сердцами, все высыпают они на защиту своих домов - так от своих кораблей уже бежали по полю мирмидоняне.
 Это знаменитые гомеровские развернутые сравнения, с которых и начинается европейская литература: когда к одному образу через неуклюжий, ненадежный мостик "подобно тому как" подсоединяется другой, иноприродный ему, и так они зависают навечно в каком-то странном, скособоченном ракурсе.
Это знаменитые гомеровские развернутые сравнения, с которых и начинается европейская литература: когда к одному образу через неуклюжий, ненадежный мостик "подобно тому как" подсоединяется другой, иноприродный ему, и так они зависают навечно в каком-то странном, скособоченном ракурсе.
 Очевидно, уже самому Гомеру не было дела до бегущих по полю мирмидонян. Но личное наваждение заставило его притянуть к ним вылетающих из гнезда ос - потревоженных неразумными детьми вблизи какой-то дороги, поселения, деревни, дачи жарким летним днем. Для нас - никогда не видевших уже ни ос, ни мирмидонян - для нашего удовольствия остается, казалось бы, и того меньше: лишь пустой вибрирующий отзвук самого соединения.
Очевидно, уже самому Гомеру не было дела до бегущих по полю мирмидонян. Но личное наваждение заставило его притянуть к ним вылетающих из гнезда ос - потревоженных неразумными детьми вблизи какой-то дороги, поселения, деревни, дачи жарким летним днем. Для нас - никогда не видевших уже ни ос, ни мирмидонян - для нашего удовольствия остается, казалось бы, и того меньше: лишь пустой вибрирующий отзвук самого соединения.
 Одно из ранних стихотворений Введенского заканчивается строчкой "Рысь женилась" - такой блестящей ремаркой, вдруг выступающей из сумрака неясных словесных копошений. Помнится, я как-то поделился своим восторгом с одним тогдашним приятелем (за прошедшие годы он стал скандально известным художником) - тот заметил, что поскольку предполагаемая мощь этой строчки исходит именно от ее вырванности из контекста, с таким же успехом можно было написать "Корова разводилась", а мое восхищение является исключительно субъективным.
Одно из ранних стихотворений Введенского заканчивается строчкой "Рысь женилась" - такой блестящей ремаркой, вдруг выступающей из сумрака неясных словесных копошений. Помнится, я как-то поделился своим восторгом с одним тогдашним приятелем (за прошедшие годы он стал скандально известным художником) - тот заметил, что поскольку предполагаемая мощь этой строчки исходит именно от ее вырванности из контекста, с таким же успехом можно было написать "Корова разводилась", а мое восхищение является исключительно субъективным.
 С тех пор как мы не можем ссылаться на гомеровскую ослепшую/ослепляющую боговдохновенность, подобные вопросы: "Значит, все так могут?!" - уже никогда не отпустят нас.
С тех пор как мы не можем ссылаться на гомеровскую ослепшую/ослепляющую боговдохновенность, подобные вопросы: "Значит, все так могут?!" - уже никогда не отпустят нас.
 В "Пленнице" Марселя Пруста есть эпизод, когда старому писателю Берготу рассказывают о выставке голландской живописи и о полотне Вермеера "Вид Дельфта", на котором где-то с краю среди прочего написан кусочек желтой стены. И что эта стена - то, как она написана, - есть, дескать, самое прекрасное место в мировой живописи. Больной, в последней стадии уремии, Бергот плетется на выставку, созерцает картину и убеждается, что та маленькая желтая стена - в отрыве от всего остального, как китайский каллиграфический росчерк, - есть действительно лучшее увиденное им в жизни, воплощение Истины и Красоты. И здесь его, конечно, настигает последний приступ, и он умирает в созерцании, бормоча что-то о "нескольких желтых кирпичах...".
В "Пленнице" Марселя Пруста есть эпизод, когда старому писателю Берготу рассказывают о выставке голландской живописи и о полотне Вермеера "Вид Дельфта", на котором где-то с краю среди прочего написан кусочек желтой стены. И что эта стена - то, как она написана, - есть, дескать, самое прекрасное место в мировой живописи. Больной, в последней стадии уремии, Бергот плетется на выставку, созерцает картину и убеждается, что та маленькая желтая стена - в отрыве от всего остального, как китайский каллиграфический росчерк, - есть действительно лучшее увиденное им в жизни, воплощение Истины и Красоты. И здесь его, конечно, настигает последний приступ, и он умирает в созерцании, бормоча что-то о "нескольких желтых кирпичах...".
 Этот эпизод в упрощенном виде упоминается в туристических путеводителях по Дельфту: мол, великий французский писатель Марсель Пруст считал картину Вермеера "Вид Дельфта" лучшим произведением мировой живописи. Что принципиально неверно - ведь он упоминал только фрагмент, кусочек желтой стены где-то сбоку. Причем, глядя на саму картину, мы вообще не можем понять, какую именно стену имел в виду Пруст - на полотне можно обнаружить в разных местах с полдюжины желто-коричневых и желто-розовых стен, которые кажутся равным образом замечательно (или обыкновенно) написанными.
Этот эпизод в упрощенном виде упоминается в туристических путеводителях по Дельфту: мол, великий французский писатель Марсель Пруст считал картину Вермеера "Вид Дельфта" лучшим произведением мировой живописи. Что принципиально неверно - ведь он упоминал только фрагмент, кусочек желтой стены где-то сбоку. Причем, глядя на саму картину, мы вообще не можем понять, какую именно стену имел в виду Пруст - на полотне можно обнаружить в разных местах с полдюжины желто-коричневых и желто-розовых стен, которые кажутся равным образом замечательно (или обыкновенно) написанными.
 Предположим, мы хотим все же доверять Прусту, Введенскому и Гомеру. Тогда у нас, кажется, есть только две возможности: условно скажем, следовать Хранителям или следовать Графоманам. Хранители полагают, что в мире существует изначальный, пусть и бесконечно большой, набор правильных сравнений и исходных обстоятельств для каждой вещи. С точки зрения Графоманов, все определяется самим непредсказуемым актом индивидуального восприятия, каждый раз изменяющим мир. Хранители озабочены коллективной памятью. Для Графоманов литература существует именно благодаря их собственному беспамятству. Хранители пишут для того, чтобы воскрешать. Графоманы только делают вид, будто им надо что-то вспомнить, - просто для того, чтобы можно было писать дальше. Хранители собирают, Графоманы создают - хотя кто знает, есть ли здесь какая-то разница.
Предположим, мы хотим все же доверять Прусту, Введенскому и Гомеру. Тогда у нас, кажется, есть только две возможности: условно скажем, следовать Хранителям или следовать Графоманам. Хранители полагают, что в мире существует изначальный, пусть и бесконечно большой, набор правильных сравнений и исходных обстоятельств для каждой вещи. С точки зрения Графоманов, все определяется самим непредсказуемым актом индивидуального восприятия, каждый раз изменяющим мир. Хранители озабочены коллективной памятью. Для Графоманов литература существует именно благодаря их собственному беспамятству. Хранители пишут для того, чтобы воскрешать. Графоманы только делают вид, будто им надо что-то вспомнить, - просто для того, чтобы можно было писать дальше. Хранители собирают, Графоманы создают - хотя кто знает, есть ли здесь какая-то разница.
 Великий русский воскреситель Николай Федоров был библиотекарем - прослужил всю жизнь в Румянцевской библиотеке. Современники опрометчиво почитали его как энциклопедиста, на самом деле книг он не читал: предпочитал иметь дело с обложками, единицами хранения, каталогами, оперировал заглавиями и выходными данными. Как раз в комнате, именуемой "каталожной", собирались у него последователи обсуждать "небратское состояние мира". Федоров оставил множество текстов, критикующих западную философию, и, в частности, "Мир как воля и представление" Шопенгауэра - в них осуждается как "неправильное" исключительно само название книги: "волю" предлагалось заменить на "братство", "представление" - на "общий проект". Библиотека, подобно кладбищу, была для Федорова лишь совокупностью поименованных останков. Эти останки надо было правильно хранить по технологии "печалования об отцах": не оттаскивать далеко от центра, ни в коем случае не сжигать (не читать? не рассматривать?) - Федоров в равной мере ненавидел колумбарии и всемирные выставки, - но одновременно же эти останки можно и нужно было подвергать всяческим перевертываниям, подменам, воздействию электрического тока для радостного коллективного воскрешения.
Великий русский воскреситель Николай Федоров был библиотекарем - прослужил всю жизнь в Румянцевской библиотеке. Современники опрометчиво почитали его как энциклопедиста, на самом деле книг он не читал: предпочитал иметь дело с обложками, единицами хранения, каталогами, оперировал заглавиями и выходными данными. Как раз в комнате, именуемой "каталожной", собирались у него последователи обсуждать "небратское состояние мира". Федоров оставил множество текстов, критикующих западную философию, и, в частности, "Мир как воля и представление" Шопенгауэра - в них осуждается как "неправильное" исключительно само название книги: "волю" предлагалось заменить на "братство", "представление" - на "общий проект". Библиотека, подобно кладбищу, была для Федорова лишь совокупностью поименованных останков. Эти останки надо было правильно хранить по технологии "печалования об отцах": не оттаскивать далеко от центра, ни в коем случае не сжигать (не читать? не рассматривать?) - Федоров в равной мере ненавидел колумбарии и всемирные выставки, - но одновременно же эти останки можно и нужно было подвергать всяческим перевертываниям, подменам, воздействию электрического тока для радостного коллективного воскрешения.
 Можем ли мы представить себе исчерпывающий компендиум всех возможных метафор, сравнений, эпитафий - этих своего рода ловких зверьков, воскрешающих события и проталкивающих вещи назад в существование? Подобно полному списку всех живших на земле людей или подобно заранее данному каталогу рифм - как писали стихи в Китае на излете классической эпохи: наугад вытаскивали из ящика карточки с рифмами, и писание стихов неизбежно превращалось в "состязание по писанию стихов".
Можем ли мы представить себе исчерпывающий компендиум всех возможных метафор, сравнений, эпитафий - этих своего рода ловких зверьков, воскрешающих события и проталкивающих вещи назад в существование? Подобно полному списку всех живших на земле людей или подобно заранее данному каталогу рифм - как писали стихи в Китае на излете классической эпохи: наугад вытаскивали из ящика карточки с рифмами, и писание стихов неизбежно превращалось в "состязание по писанию стихов".
 В физике существует модель, именуемая "термодинамическим демоном Максвелла", - невозможное устройство, превращающее теплоту без остатка в работу наперекор закону повышения энтропии. Можно представить себе подобного рода поэтическое устройство, превращающее слезы и имена в поэзию со стопроцентным коэффициентом полезного действия. Если взять, к примеру, некоего бесконечно великого и бесконечно работоспособного поэта, посадить его в закрытый подвал, потом связать этот подвал телефонами, телеграфами, компьютерными сетями со всеми кладбищами мира - так, чтобы туда постоянно стекалась информация об именах усопших, предаваемых сейчас земле. А этот великий гиперактивный поэт будет создавать эпитафии для каждого умершего, руководствуясь только самим звучанием его имени - подобно тому как Федоров руководствовался только названиями нечитаемых книг. Можно ли предположить, что такой коммуникативно-поэтический агрегат будет производить полный объем поэзии, возможной в мире за истекший период?
В физике существует модель, именуемая "термодинамическим демоном Максвелла", - невозможное устройство, превращающее теплоту без остатка в работу наперекор закону повышения энтропии. Можно представить себе подобного рода поэтическое устройство, превращающее слезы и имена в поэзию со стопроцентным коэффициентом полезного действия. Если взять, к примеру, некоего бесконечно великого и бесконечно работоспособного поэта, посадить его в закрытый подвал, потом связать этот подвал телефонами, телеграфами, компьютерными сетями со всеми кладбищами мира - так, чтобы туда постоянно стекалась информация об именах усопших, предаваемых сейчас земле. А этот великий гиперактивный поэт будет создавать эпитафии для каждого умершего, руководствуясь только самим звучанием его имени - подобно тому как Федоров руководствовался только названиями нечитаемых книг. Можно ли предположить, что такой коммуникативно-поэтический агрегат будет производить полный объем поэзии, возможной в мире за истекший период?
 Если все человечество уйдет в чистую коммуникативность, лишенную предикатов, трансляцию наименований - "коммуникацию ради коммуникации", - если оно целиком переселится в компьютеры, можно ли представить себе язык, оставшийся "здесь", на земле без людей, предоставленный себе самому, лишенный своих носителей? Как ослепленный Полифем, оставшийся у себя в пещере (идеально платоновской пещере?), когда хитрые греки ускользнули на своих кораблях. Или такой же слепой язык "там" - в компьютерных романах, циркулирующий по сетям и не нуждающийся в зрении? Книги, существующие как имена файлов, как "анекдот номер восемь".
Если все человечество уйдет в чистую коммуникативность, лишенную предикатов, трансляцию наименований - "коммуникацию ради коммуникации", - если оно целиком переселится в компьютеры, можно ли представить себе язык, оставшийся "здесь", на земле без людей, предоставленный себе самому, лишенный своих носителей? Как ослепленный Полифем, оставшийся у себя в пещере (идеально платоновской пещере?), когда хитрые греки ускользнули на своих кораблях. Или такой же слепой язык "там" - в компьютерных романах, циркулирующий по сетям и не нуждающийся в зрении? Книги, существующие как имена файлов, как "анекдот номер восемь".
 Под Графоманами мы подразумеваем не дилетантов, а тех, для кого письмо и существование - суть одно и то же. Когда бесконечно продлевать письмо - это единственный способ что-то вспомнить и, с другой стороны - делать вид, будто вспоминаешь, необходимо лишь для того, чтобы продолжать писать. Хранители доверяют энергии и порядку, Графоманы - энтропии и хаосу. (Особенно если пользоваться этими словами именно как понятиями физики.) В этом смысле все писатели - по преимуществу Графоманы. До недавнего времени Графоманы доминировали в современной литературе: Пруст, Жене, Беккет (сейчас их замещают компьютерно или социально озабоченные Хранители). Набоков, кстати, был необычным Графоманом, всю жизнь пытающимся изобразить из себя Хранителя.
Под Графоманами мы подразумеваем не дилетантов, а тех, для кого письмо и существование - суть одно и то же. Когда бесконечно продлевать письмо - это единственный способ что-то вспомнить и, с другой стороны - делать вид, будто вспоминаешь, необходимо лишь для того, чтобы продолжать писать. Хранители доверяют энергии и порядку, Графоманы - энтропии и хаосу. (Особенно если пользоваться этими словами именно как понятиями физики.) В этом смысле все писатели - по преимуществу Графоманы. До недавнего времени Графоманы доминировали в современной литературе: Пруст, Жене, Беккет (сейчас их замещают компьютерно или социально озабоченные Хранители). Набоков, кстати, был необычным Графоманом, всю жизнь пытающимся изобразить из себя Хранителя.
 Точным примером (псевдо)прорастания памяти сквозь письмо является знаменитый эпизод с "мокрым печеньем" у Пруста: когда вкус размокшего от чая печенья во рту притянул к себе запах бузины, а тот - прогулки по направлению к Свану. Но если мы полностью проникаемся этим методом, то становится непонятно, почему книги Пруста не являются графоманскими в расхожем смысле этого слова и почему, читая о Комбре, каждый представляет себе свою собственную Дачу. Или почему мы доверяем смерти Бергота при созерцании какой-то уникальной желтой стены, хотя и можем отыскать на картине еще с полдюжины таких же стен. Точным примером (псевдо)прорастания памяти сквозь письмо является знаменитый эпизод с "мокрым печеньем" у Пруста: когда вкус размокшего от чая печенья во рту притянул к себе запах бузины, а тот - прогулки по направлению к Свану. Но если мы полностью проникаемся этим методом, то становится непонятно, почему книги Пруста не являются графоманскими в расхожем смысле этого слова и почему, читая о Комбре, каждый представляет себе свою собственную Дачу. Или почему мы доверяем смерти Бергота при созерцании какой-то уникальной желтой стены, хотя и можем отыскать на картине еще с полдюжины таких же стен.
 Итак, нам малосимпатичны Хранители, зовущие в слепой мир бесконечных перекладываний, где наши рождение, жизнь и смерть становятся лишь частями общего проекта возмездия и воскрешения в сияющий групповой космический разум. Вдобавок их призывы противоречат не только лирике, но и физике: всякий образ вбрасывается в мир единожды, его энергия может греть нас в своих бесконечных уровнях рассеяния, но не может быть собрана, проинтерпретирована и использована еще раз для чего-то другого. Подобно тому как находящиеся в хаотическом движении молекулы не могут сами по себе собраться во фразу: "Эй, люди, это мы, молекулы!", подобно тому как невозможно, вопреки Федорову, воскресить умерших, прилежно собирая по миру их молекулярный прах.
Итак, нам малосимпатичны Хранители, зовущие в слепой мир бесконечных перекладываний, где наши рождение, жизнь и смерть становятся лишь частями общего проекта возмездия и воскрешения в сияющий групповой космический разум. Вдобавок их призывы противоречат не только лирике, но и физике: всякий образ вбрасывается в мир единожды, его энергия может греть нас в своих бесконечных уровнях рассеяния, но не может быть собрана, проинтерпретирована и использована еще раз для чего-то другого. Подобно тому как находящиеся в хаотическом движении молекулы не могут сами по себе собраться во фразу: "Эй, люди, это мы, молекулы!", подобно тому как невозможно, вопреки Федорову, воскресить умерших, прилежно собирая по миру их молекулярный прах.
 Гораздо симпатичнее кажутся устремления Графоманов, если только мы смогли бы очертить, как отделяется блеск соответствия от тупого напора произвольного и "рысь женилась" - от "корова разводилась". Или скорее всего мы должны просто сознавать, что эти соответствия, эта возможность сообщать и быть понятым присутствуют в мире как чудесная внеположная данность. Еще до того как сообщения были отправлены.
Гораздо симпатичнее кажутся устремления Графоманов, если только мы смогли бы очертить, как отделяется блеск соответствия от тупого напора произвольного и "рысь женилась" - от "корова разводилась". Или скорее всего мы должны просто сознавать, что эти соответствия, эта возможность сообщать и быть понятым присутствуют в мире как чудесная внеположная данность. Еще до того как сообщения были отправлены.
 Бесконечное число возможных образов и ракурсов событий подобно космическим лучам пронизывает мир. Невозможно сказать, существовали ли они заранее или возникают во времени нашей жизни. И тем не менее между некоторыми из них изначально присутствуют сходимость, соответствие, как раз и определяемые как "наш мир". В этом смысле в мире нет ничего правильного, истинного и соответствующего, кроме самого соответствия. В нем нет самих по себе ни "мирмидонян", ни "ос, вылетевших из гнезда", но единственно есть пустое, ничего не гарантирующее, изначально блистательное "подобно тому как".
Бесконечное число возможных образов и ракурсов событий подобно космическим лучам пронизывает мир. Невозможно сказать, существовали ли они заранее или возникают во времени нашей жизни. И тем не менее между некоторыми из них изначально присутствуют сходимость, соответствие, как раз и определяемые как "наш мир". В этом смысле в мире нет ничего правильного, истинного и соответствующего, кроме самого соответствия. В нем нет самих по себе ни "мирмидонян", ни "ос, вылетевших из гнезда", но единственно есть пустое, ничего не гарантирующее, изначально блистательное "подобно тому как".
|