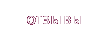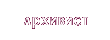|
 |
aaa
aaa
1. Размышления о практическом
 В
отличие от еды, где сытости принадлежат права, а вкусу обязанности,
в мире знаний признаков первичности нет. Тем более в "непрактическом",
и если о надоях с электроники можно иметь фантазии, утилитарный смысл
литературы, истории и прочих гипотез человеков о самих себе сомнителен.
Просьба сначала напоить, накормить,
баньку
истопить, а затем задавать вопросы звучит резонно. Стихами сыт не будешь.
Без них - и подавно. В многосложном доказательстве этого тезиса последнему
десятилетию российской истории принадлежала бы не самая важная глава,
возможно, в силу прозрачной очевидности. ХХ век знавал прецеденты посложней.
В
отличие от еды, где сытости принадлежат права, а вкусу обязанности,
в мире знаний признаков первичности нет. Тем более в "непрактическом",
и если о надоях с электроники можно иметь фантазии, утилитарный смысл
литературы, истории и прочих гипотез человеков о самих себе сомнителен.
Просьба сначала напоить, накормить,
баньку
истопить, а затем задавать вопросы звучит резонно. Стихами сыт не будешь.
Без них - и подавно. В многосложном доказательстве этого тезиса последнему
десятилетию российской истории принадлежала бы не самая важная глава,
возможно, в силу прозрачной очевидности. ХХ век знавал прецеденты посложней.
 Со стороны, из американского далека,
эпоха Перестройки виделась
непрерывной чередой культурных фиаско, и постепенно крепла мысль,
что экономическая и политическая отсталость России суть следствия
культурной. Я только могу догадываться, насколько оскорбительной
должна казаться эта мысль русскому человеку, для которого культура
оставалась последним прибежищем национальной гордости. И тем не
менее я бы настаивал, что в череде уроков русской истории Новейшего
Времени окружающему миру этот был одним из самых важных, и не
исключено, страшных. Эффективная (а она была чрезвычайно
эффективной) изоляция советского общества в конечном счете
превратилась в синоним "прогрессивного паралича"; изоляция
способствовала бешеной культурной изоляции: государство
спекулировало на беспрерывной перепродаже "Лебединого озера";
население, по несчастью и бедности, спичечными этикетками:
беллетризированными политическими брошюрками, народным фигурным
катанием, застольным (!)
политическим песнопением.
Чем больше те и другие верили, что где-где, а в "области балета" пенька,
лыко и ворвань по-прежнему составляют основу национального
богатства, тем отчаянней становилась ситуация с хлебушком. Только
раньше эта связь была непонятной. Грянул гром - и оказалось, мужик
глухой. Сомневаюсь, чтобы, услышав, он перекрестился, но это второе
дело. Он не слышал. Чего?
Со стороны, из американского далека,
эпоха Перестройки виделась
непрерывной чередой культурных фиаско, и постепенно крепла мысль,
что экономическая и политическая отсталость России суть следствия
культурной. Я только могу догадываться, насколько оскорбительной
должна казаться эта мысль русскому человеку, для которого культура
оставалась последним прибежищем национальной гордости. И тем не
менее я бы настаивал, что в череде уроков русской истории Новейшего
Времени окружающему миру этот был одним из самых важных, и не
исключено, страшных. Эффективная (а она была чрезвычайно
эффективной) изоляция советского общества в конечном счете
превратилась в синоним "прогрессивного паралича"; изоляция
способствовала бешеной культурной изоляции: государство
спекулировало на беспрерывной перепродаже "Лебединого озера";
население, по несчастью и бедности, спичечными этикетками:
беллетризированными политическими брошюрками, народным фигурным
катанием, застольным (!)
политическим песнопением.
Чем больше те и другие верили, что где-где, а в "области балета" пенька,
лыко и ворвань по-прежнему составляют основу национального
богатства, тем отчаянней становилась ситуация с хлебушком. Только
раньше эта связь была непонятной. Грянул гром - и оказалось, мужик
глухой. Сомневаюсь, чтобы, услышав, он перекрестился, но это второе
дело. Он не слышал. Чего?
 Исходный замысел "золотого списка" книг
для перевода на русский
казался простым и ясным: пройтись вдоль полок и описать одну за другой
пару дюжин самых лучших - наткнулся на многозначительный вопрос -
"чего"? В связи с этим мне припомнилась другая история, из того же
десятилетия, но из других весей. После того, как японцам удалось
завоевать американский рынок бытовой электроники, на повестку дня
встал вопрос о начинке. Почему бы не добавить к рынку видиков
собственный рынок кино? Тогда... Банзай, банзай! - на продажу вынесли
пару больших голливудских студий! Купили. Рынок замкнулся: кино и
киношник очутились в одном кармане. Воодушевленное успехом, MITI
поставило перед деловым миром задачу повторить то же самое с
компьютерами. Банзай, банзай! - оголодавшая по капиталу американская
индустрия software стройной колонной вышла за долларами и иенами на
японскую панель, и пока в Соединенных Штатах изумленные патриоты,
грустно покачивая головами, вопрошали небывалую ситуацию в
национальной истории, японцы открыли, что в отличие от кино с его
конечным продуктом - фильмом, компьютерная начинка обладает
неприятной особенностью - отсутствием явственной, зримой
законченности. Короче, оставляя в стороне подробности этой долгой,
сложной и поучительной истории, японцы пришли к выводу, что стратегия
завоевания требует (в дополнение) создания собственной Силиконовой
Долины.
Исходный замысел "золотого списка" книг
для перевода на русский
казался простым и ясным: пройтись вдоль полок и описать одну за другой
пару дюжин самых лучших - наткнулся на многозначительный вопрос -
"чего"? В связи с этим мне припомнилась другая история, из того же
десятилетия, но из других весей. После того, как японцам удалось
завоевать американский рынок бытовой электроники, на повестку дня
встал вопрос о начинке. Почему бы не добавить к рынку видиков
собственный рынок кино? Тогда... Банзай, банзай! - на продажу вынесли
пару больших голливудских студий! Купили. Рынок замкнулся: кино и
киношник очутились в одном кармане. Воодушевленное успехом, MITI
поставило перед деловым миром задачу повторить то же самое с
компьютерами. Банзай, банзай! - оголодавшая по капиталу американская
индустрия software стройной колонной вышла за долларами и иенами на
японскую панель, и пока в Соединенных Штатах изумленные патриоты,
грустно покачивая головами, вопрошали небывалую ситуацию в
национальной истории, японцы открыли, что в отличие от кино с его
конечным продуктом - фильмом, компьютерная начинка обладает
неприятной особенностью - отсутствием явственной, зримой
законченности. Короче, оставляя в стороне подробности этой долгой,
сложной и поучительной истории, японцы пришли к выводу, что стратегия
завоевания требует (в дополнение) создания собственной Силиконовой
Долины.
 Денег куры не клюют, создали. Все хорошо,
но... не то.
"Так похоже на Россию, только..."
на доллар получается пятьдесят центов.
Наняли аналитиков, послали гонцов. Долго сказка сказывается, быстро
дело делается, докладывают аналитики и гонцы в MITI, что разгадан ими
секрет Долины. Мы, японцы, другие: зажаты, конформичны, нет в нас
американской анархической легкости, раскованности, непредсказуемости.
Эка! - вскричали капитаны индустрии и со свойственной им деловитостью
в считанные месяцы создали свою Долину, поселили в ней самых
способных электронщиков, ВЕЛЕЛИ им быть раскованными, называть
начальников на "ты", слушать на работе рок, отпускать волосы до
калифорнийской патлатости; строго-настрого наказали начальникам
главков и отделов поощрительно, на шаг вперед, идти к той самой матери
при первом же взблеске независимости в глазах подчиненных, и
изготовились подхватывать яички из инкубатора "собственных
невтонов". Сколько мне известно, после пары невзрачных перепелиных
яичек ко всеобщему удивлению японская курочка нестись перестала.
Денег куры не клюют, создали. Все хорошо,
но... не то.
"Так похоже на Россию, только..."
на доллар получается пятьдесят центов.
Наняли аналитиков, послали гонцов. Долго сказка сказывается, быстро
дело делается, докладывают аналитики и гонцы в MITI, что разгадан ими
секрет Долины. Мы, японцы, другие: зажаты, конформичны, нет в нас
американской анархической легкости, раскованности, непредсказуемости.
Эка! - вскричали капитаны индустрии и со свойственной им деловитостью
в считанные месяцы создали свою Долину, поселили в ней самых
способных электронщиков, ВЕЛЕЛИ им быть раскованными, называть
начальников на "ты", слушать на работе рок, отпускать волосы до
калифорнийской патлатости; строго-настрого наказали начальникам
главков и отделов поощрительно, на шаг вперед, идти к той самой матери
при первом же взблеске независимости в глазах подчиненных, и
изготовились подхватывать яички из инкубатора "собственных
невтонов". Сколько мне известно, после пары невзрачных перепелиных
яичек ко всеобщему удивлению японская курочка нестись перестала.
 На том дурацкая сказка кончилась. Мораль ее не в особой
национальной, a la Петр Великий, доверчивости к чужеземному и даже не
в, якобы (давно не соответствующей действительности), особой,
свойственной японской культуре тенденции к подражанию - я знаю, почти
точь-в-точь, не менее смешные американские истории. Будь это
обыкновенной
историей
об усах
Ивана Васильевича
с носом
Василия Ивановича,
она бы заслуживала упоминания в списке курьезов, и
только. Вспомнил же я о ней потому, что у нее есть пара интересных
особенностей. Первая: честно и справедливо заслуженная японцами
деловая репутация; сказано - сделано; пшик делался добротно, хорошо, с
вниманием к тысячам мельчайших деталей, на совесть и, стало быть,
целая линия возможных рассуждений о тяп-ляпах, "кабы были... деньги",
бардаке и неподходящей власти отпадают. Вторая вытекает из первой:
естественное соседство близкого к совершенству практицизма с почти
идеальным кретинизмом. Стало быть, различия между ними в некоторых
ситуациях несущественны. И, кажется, я знаю почему. Потому что самыми
практичными вещами, как ни странно, ОКАЗЫВАЮТСЯ самые, какие
прозаический ум может только вообразить, вздорно непригоднейшие ни к
столу, ни к заднице. Те же стихи, например.
На том дурацкая сказка кончилась. Мораль ее не в особой
национальной, a la Петр Великий, доверчивости к чужеземному и даже не
в, якобы (давно не соответствующей действительности), особой,
свойственной японской культуре тенденции к подражанию - я знаю, почти
точь-в-точь, не менее смешные американские истории. Будь это
обыкновенной
историей
об усах
Ивана Васильевича
с носом
Василия Ивановича,
она бы заслуживала упоминания в списке курьезов, и
только. Вспомнил же я о ней потому, что у нее есть пара интересных
особенностей. Первая: честно и справедливо заслуженная японцами
деловая репутация; сказано - сделано; пшик делался добротно, хорошо, с
вниманием к тысячам мельчайших деталей, на совесть и, стало быть,
целая линия возможных рассуждений о тяп-ляпах, "кабы были... деньги",
бардаке и неподходящей власти отпадают. Вторая вытекает из первой:
естественное соседство близкого к совершенству практицизма с почти
идеальным кретинизмом. Стало быть, различия между ними в некоторых
ситуациях несущественны. И, кажется, я знаю почему. Потому что самыми
практичными вещами, как ни странно, ОКАЗЫВАЮТСЯ самые, какие
прозаический ум может только вообразить, вздорно непригоднейшие ни к
столу, ни к заднице. Те же стихи, например.

aaa
aaa
2. Поливалка и газон
 Казалось
бы, какие сложности - оглядывайся по сторонам и только
успевай строчить! Без малейших угрызений совести за дешевый хлеб и
каких-либо сомнений в собственной правоте я мог бы переписывать
подряд хоть отборные запасы на моих стеллажах, хоть - практически
дословно! - каталоги любых стран, издательств, библиотек, полки
книжных магазинов, букинистические развалы. Культурная отсталость
России так велика, последствия почти столетней (отдельный
фундаментальный и больной вопрос - о досоветской) изоляции от
культурного развития окружающего мира настолько устрашающи, что
боязнь оскорбить чью-либо чувствительность отступает на третий план.
Тем более, что мне тоже больно. По-другому, наверное, и больше за свое
постыдно невежественное прошлое, чем за отсталость имматериальных
фантомов "страны", "народа", "России", - но больно. Энное число лет
назад я был таким же, как было принято говорить, "продуктом системы" и
всем сердцем верил в доморощенную собачатину о необремененной
благополучием духовности, о воздающей благостности посланных России
тяжелых испытаний, был точно таким же культурным самодуром, как
самые лучшие и самые гнусные из известных мне людей, которые
удостаивали вниманием книги, музыку, живопись, - короче подойдите к
зеркалу и полюбуйтесь на мое отражение.
Казалось
бы, какие сложности - оглядывайся по сторонам и только
успевай строчить! Без малейших угрызений совести за дешевый хлеб и
каких-либо сомнений в собственной правоте я мог бы переписывать
подряд хоть отборные запасы на моих стеллажах, хоть - практически
дословно! - каталоги любых стран, издательств, библиотек, полки
книжных магазинов, букинистические развалы. Культурная отсталость
России так велика, последствия почти столетней (отдельный
фундаментальный и больной вопрос - о досоветской) изоляции от
культурного развития окружающего мира настолько устрашающи, что
боязнь оскорбить чью-либо чувствительность отступает на третий план.
Тем более, что мне тоже больно. По-другому, наверное, и больше за свое
постыдно невежественное прошлое, чем за отсталость имматериальных
фантомов "страны", "народа", "России", - но больно. Энное число лет
назад я был таким же, как было принято говорить, "продуктом системы" и
всем сердцем верил в доморощенную собачатину о необремененной
благополучием духовности, о воздающей благостности посланных России
тяжелых испытаний, был точно таким же культурным самодуром, как
самые лучшие и самые гнусные из известных мне людей, которые
удостаивали вниманием книги, музыку, живопись, - короче подойдите к
зеркалу и полюбуйтесь на мое отражение.
 Понимая одним полушарием мозга, что благодушная терпимость
властей к болтовне о "духовности", благосклонное поощрение любой
крамолы, укладывающейся в льстивое тургеневское избранничество
русского языка, выдают противный нормальному порядок вещей, другим
полушарием я страстно хотел верить обману, и если в России когда-либо
существовал человек, заслуживающий прозвища СОВКА, никаких
сомнений насчет того, к кому оно относится, у меня нет. Конечно, ко мне.
Понимая одним полушарием мозга, что благодушная терпимость
властей к болтовне о "духовности", благосклонное поощрение любой
крамолы, укладывающейся в льстивое тургеневское избранничество
русского языка, выдают противный нормальному порядок вещей, другим
полушарием я страстно хотел верить обману, и если в России когда-либо
существовал человек, заслуживающий прозвища СОВКА, никаких
сомнений насчет того, к кому оно относится, у меня нет. Конечно, ко мне.
 Впоследствии
совковость мутировала в благородную мысль, что
буде в России, разумеется, не при нашей жизни, восторжествует свобода,
опыт, через который я проходил в открытом мире, будет доступен всякому
мало-мальски неглупому (т.е. по определению, умнее меня) человеку. Шло
время, смеркалось. На американском горизонте появились люди из Новой
России. Странным образом, когда дело доходило до культуры, отличить
их от пришельцев из Старой было практически невозможно.
Впоследствии
совковость мутировала в благородную мысль, что
буде в России, разумеется, не при нашей жизни, восторжествует свобода,
опыт, через который я проходил в открытом мире, будет доступен всякому
мало-мальски неглупому (т.е. по определению, умнее меня) человеку. Шло
время, смеркалось. На американском горизонте появились люди из Новой
России. Странным образом, когда дело доходило до культуры, отличить
их от пришельцев из Старой было практически невозможно.
 Никаких причин врать у меня нет, так вот, из нескольких десятков
гостей, которых мы принимали за последнее десятилетие (картина не
менялась с годами), мне не удалось НИ ОДНОГО затащить в
книжный,
пластиночный
магазины; что до выставок, на бесплатные ГОТОВЫ
БЫЛИ ходить - но не ходили, ибо "понимаешь, времени в обрез"; книгами
изредка интересовались, исключительно "по специальности", и, если
затрата не обещала немедленно по приезде "себя окупить", интерес
пропадал в платонической стадии; музыка опять-таки "не по
специальности" обреталась в самом низу списка нужных и полезных
вещей, до нее речь попросту не доходила; я размахивал руками, обещал
"дешевые магазины", повествовал о музыкальной революции, подлинных,
на исторических инструментах, исполнениях, которые стоят ДЕШЕВЛЕ
псевдо-адидасов - вотще, в духе новой эпохи мои гости голосовали
временем и кошельком. И как ни пытался я понять в общем-то очевидные
причины, резоны, как ни сочувствовал оскорбленной нищетой гордости
великороссов, недоумение оставалось. Ну хоть бы один...
Никаких причин врать у меня нет, так вот, из нескольких десятков
гостей, которых мы принимали за последнее десятилетие (картина не
менялась с годами), мне не удалось НИ ОДНОГО затащить в
книжный,
пластиночный
магазины; что до выставок, на бесплатные ГОТОВЫ
БЫЛИ ходить - но не ходили, ибо "понимаешь, времени в обрез"; книгами
изредка интересовались, исключительно "по специальности", и, если
затрата не обещала немедленно по приезде "себя окупить", интерес
пропадал в платонической стадии; музыка опять-таки "не по
специальности" обреталась в самом низу списка нужных и полезных
вещей, до нее речь попросту не доходила; я размахивал руками, обещал
"дешевые магазины", повествовал о музыкальной революции, подлинных,
на исторических инструментах, исполнениях, которые стоят ДЕШЕВЛЕ
псевдо-адидасов - вотще, в духе новой эпохи мои гости голосовали
временем и кошельком. И как ни пытался я понять в общем-то очевидные
причины, резоны, как ни сочувствовал оскорбленной нищетой гордости
великороссов, недоумение оставалось. Ну хоть бы один...
 ...Уже повезли с базара возы милорда. Слава Богу, думал я, как
хорошо, что милорд-читатель нашел милорда-писателя, это здоровая,
нормальная часть культурного процесса, терпение, господа, терпение,
через минуту, ну, через час запрягут телегу под белинских и гоголей. Что
читают в России? - спрашивал я приезжих. Напряженно хмурят брови,
припоминают, недоуменно пожимают плечами. А ты-то сам? Времени нет.
То сообщат из Англии о присуждении
Маканину
Букера. Знакомое имя,читал. Года два назад стал получать из Нью-Йорка и
Лос-Анджелеса каталоги русских книжных торговых фирм. Много милорда, что
не - знакомые имена, перепечатки известных книг. И постепенно в голове
стала складываться картина во многом близкая у той, которую я
наблюдал в эмиграции. Механизм ее прост. Освобожденный от давления
среды, социально голый индивидуум становится - в подавляющем
большинстве случаев - впервые подлинным самим собой. И - прежде
языка, многолетних привычек, привязанностей облетает та часть
культуры, которую принято именовать ВЫСОКОЙ. Читают редко; когда
читают, для отдыха, что-нибудь "легкое" и ненужное; слушают? Что
Бог из телевизора
пошлет; на выставки, ну,
разве что знаменитые, чтобы было о чем позвонить приятелям. О
семейных уродах говорить не приходится, они статистически ничтожная
величина, а если из нее вычесть затворившихся в Бродском и Кушнере,
исправно посещающих фестивали Тарковского и премьеры Шнитке
"старообрядцев", ничтожнейшая. "Старообрядцы" по привычке носят
культурные букли. А что, правда ведь Шнитке величайший из живущих на
Земле композиторов?! - может сказать "старообрядец" для связки слов,
чего-то недокипевшего или, наоборот, третий раз кряду
переваривающегося в его голове. Девяносто шансов из ста - никаких
других "живущих" он не слушал.
...Уже повезли с базара возы милорда. Слава Богу, думал я, как
хорошо, что милорд-читатель нашел милорда-писателя, это здоровая,
нормальная часть культурного процесса, терпение, господа, терпение,
через минуту, ну, через час запрягут телегу под белинских и гоголей. Что
читают в России? - спрашивал я приезжих. Напряженно хмурят брови,
припоминают, недоуменно пожимают плечами. А ты-то сам? Времени нет.
То сообщат из Англии о присуждении
Маканину
Букера. Знакомое имя,читал. Года два назад стал получать из Нью-Йорка и
Лос-Анджелеса каталоги русских книжных торговых фирм. Много милорда, что
не - знакомые имена, перепечатки известных книг. И постепенно в голове
стала складываться картина во многом близкая у той, которую я
наблюдал в эмиграции. Механизм ее прост. Освобожденный от давления
среды, социально голый индивидуум становится - в подавляющем
большинстве случаев - впервые подлинным самим собой. И - прежде
языка, многолетних привычек, привязанностей облетает та часть
культуры, которую принято именовать ВЫСОКОЙ. Читают редко; когда
читают, для отдыха, что-нибудь "легкое" и ненужное; слушают? Что
Бог из телевизора
пошлет; на выставки, ну,
разве что знаменитые, чтобы было о чем позвонить приятелям. О
семейных уродах говорить не приходится, они статистически ничтожная
величина, а если из нее вычесть затворившихся в Бродском и Кушнере,
исправно посещающих фестивали Тарковского и премьеры Шнитке
"старообрядцев", ничтожнейшая. "Старообрядцы" по привычке носят
культурные букли. А что, правда ведь Шнитке величайший из живущих на
Земле композиторов?! - может сказать "старообрядец" для связки слов,
чего-то недокипевшего или, наоборот, третий раз кряду
переваривающегося в его голове. Девяносто шансов из ста - никаких
других "живущих" он не слушал.
 ...Другой
бы спорил. Слов нет, вначале ситуация изумляет!
Местные, свободные от рождения люди, вместо того, чтобы в едином
порыве раскупать баховские токкаты и поэмы Т.С. Эллиота, выбирают
Тони Мэтьюза и мешок-за-грош romances; со временем в поток вливаются
эмигранты с мексиканскими, вьетнамскими, русскими, итальянскими
пугачевыми и пикулями. Через какое-то время начинаешь понимать, что
сам дурак, и, перефразируя Гроссмана, свобода не только в неотъемлемом
праве тачать сапоги, но и столь же неотъемлемом носить свой, не жмущий
и не трущий размер. Поэтому культурный ландшафт современной России
не был для меня неожиданностью, он видится не вполне дописанным, но
совершенно нормальным.
...Другой
бы спорил. Слов нет, вначале ситуация изумляет!
Местные, свободные от рождения люди, вместо того, чтобы в едином
порыве раскупать баховские токкаты и поэмы Т.С. Эллиота, выбирают
Тони Мэтьюза и мешок-за-грош romances; со временем в поток вливаются
эмигранты с мексиканскими, вьетнамскими, русскими, итальянскими
пугачевыми и пикулями. Через какое-то время начинаешь понимать, что
сам дурак, и, перефразируя Гроссмана, свобода не только в неотъемлемом
праве тачать сапоги, но и столь же неотъемлемом носить свой, не жмущий
и не трущий размер. Поэтому культурный ландшафт современной России
не был для меня неожиданностью, он видится не вполне дописанным, но
совершенно нормальным.
 Чем он отличается от американского? В первую голову,
американцам не свойственны ни культурная комплиментарность, ни
уничижение. Не могу вообразить, чтобы у кого-либо из здешних были
какие бы то ни было эмоции по поводу "самой читающей" нации или
"самой отзывчивой" аудитории. Культура не входит в национальную
мифологию, она - сугубо личное дело. Этим, помимо гомерического
невежества в отношении Америки, отчасти объясняется впечатление об
американцах как малокультурных людях. Американец не обсуждает с
посторонними прочитанных книг по той же самой причине, по которой
русский не обсуждает достоинств своих друзей. В отличие от России и
Франции, посещение симфонических концертов здесь не сообщает
мяснику и старшему экономисту ауры социального престижа;
анекдотический испанский нувориш, покупающий в тон мебели полку с
книгами в придачу, американцу (который скорее купит галстук под цвет
машины) так же непонятен, как разборчивый в фасоне унт якут. В то же
время...
Чем он отличается от американского? В первую голову,
американцам не свойственны ни культурная комплиментарность, ни
уничижение. Не могу вообразить, чтобы у кого-либо из здешних были
какие бы то ни было эмоции по поводу "самой читающей" нации или
"самой отзывчивой" аудитории. Культура не входит в национальную
мифологию, она - сугубо личное дело. Этим, помимо гомерического
невежества в отношении Америки, отчасти объясняется впечатление об
американцах как малокультурных людях. Американец не обсуждает с
посторонними прочитанных книг по той же самой причине, по которой
русский не обсуждает достоинств своих друзей. В отличие от России и
Франции, посещение симфонических концертов здесь не сообщает
мяснику и старшему экономисту ауры социального престижа;
анекдотический испанский нувориш, покупающий в тон мебели полку с
книгами в придачу, американцу (который скорее купит галстук под цвет
машины) так же непонятен, как разборчивый в фасоне унт якут. В то же
время...
 Недавно
мы с женой пошли на читательский вечер по случаю
выхода новых переводов стихотворений
Поля Селана.
Обычное дело, книжный магазин, вечер, автор (в данном случае переводчик)
представляет свою работу. В аудитории человек пятьдесят, свободных
мест нет. Пятьдесят поклонников великого поэта на миллионный город, по
мне цифра нормальная. Но поклонникам делать на таком мероприятии
нечего, только время терять. Вечер поэзии Ферлингетти собрал бы
несколько сотен, из которых половина пришла ради стихов, другая
повспоминать о лучших годах их молодости. На выставку Фаберже
ломятся десятки тысяч, посмотреть картины Фриды Кало - тысячи;
выставка хорошего, но малоизвестного художника соберет, дай Бог,
сотню. Пару лет назад нам довелось сидеть в на две трети (из примерно
тысячи с лишним мест) заполненном публикой зале в концерте Гидона
Кремера. Кремер известен, у него превосходная репутация! Что так? -
спросил меня в антракте знакомый. Более, чем нормально, отвечал я, если
вы вспомните, что через дорогу, в опере, сейчас поет Самуэль Рэми, в
Masonic Auditorium выступает Горацио Гутьерес, в получасе отсюда, в
Беркли, танцует Современный Амстердамский Балет, и в трех, четырех
других залах идут концерты не столь знаменитых, но солидных
музыкантов, танцевальных театров. И это только в т.н. классическом
жанре. Итого 5-7% на миллион, для которых ВЫСОКАЯ КУЛЬТУРА что-
то значит, много или мало? По-моему, фантастически много. Да, возразит
знающий человек, но то ж Сан-Франциско, а не Каламазу, штат Мичиган!
Все правильно, не Каламазу. Но давайте прибавим измерение: и не Рим,
Мадрид, Лиссабон, где за месяц играют меньше концертов, чем в Сан-
Франциско за неделю. А по другой шкале - не Нью-Йорк, не Чикаго, не
Лос-Анджелес с более высоким уровнем и более высокими процентами. В
разумной шкале сопоставлений культурную жизнь Сан-Франциско
следует мерить не по Нью-Йорку, Вене и Лондону, с которыми она не
сравнима ни по объему, ни по разнообразию; по "венскому счету" и Токио,
и Москва - два хуторка в степи. Когда бывший москвич вздыхает в
Денвере о временах, когда он мог Плисецкую и Васильева... он не отдает
себе отчета, что русский культурный аналог Денвера не Москва, а Ростов
или Калининград. Настоящий, без условных посторонностей, российский
процент высокой культуры никому не известен. Может пять, может
двадцать пять, но что-то мне говорит, что за ОДИН честный, не
демагогический, процент нынешний (маловероятный идеалист) издатель
подписал бы в собственность душу, не глядя, хоть Богу, хоть черту, хоть
семипудовой купчихе.
Недавно
мы с женой пошли на читательский вечер по случаю
выхода новых переводов стихотворений
Поля Селана.
Обычное дело, книжный магазин, вечер, автор (в данном случае переводчик)
представляет свою работу. В аудитории человек пятьдесят, свободных
мест нет. Пятьдесят поклонников великого поэта на миллионный город, по
мне цифра нормальная. Но поклонникам делать на таком мероприятии
нечего, только время терять. Вечер поэзии Ферлингетти собрал бы
несколько сотен, из которых половина пришла ради стихов, другая
повспоминать о лучших годах их молодости. На выставку Фаберже
ломятся десятки тысяч, посмотреть картины Фриды Кало - тысячи;
выставка хорошего, но малоизвестного художника соберет, дай Бог,
сотню. Пару лет назад нам довелось сидеть в на две трети (из примерно
тысячи с лишним мест) заполненном публикой зале в концерте Гидона
Кремера. Кремер известен, у него превосходная репутация! Что так? -
спросил меня в антракте знакомый. Более, чем нормально, отвечал я, если
вы вспомните, что через дорогу, в опере, сейчас поет Самуэль Рэми, в
Masonic Auditorium выступает Горацио Гутьерес, в получасе отсюда, в
Беркли, танцует Современный Амстердамский Балет, и в трех, четырех
других залах идут концерты не столь знаменитых, но солидных
музыкантов, танцевальных театров. И это только в т.н. классическом
жанре. Итого 5-7% на миллион, для которых ВЫСОКАЯ КУЛЬТУРА что-
то значит, много или мало? По-моему, фантастически много. Да, возразит
знающий человек, но то ж Сан-Франциско, а не Каламазу, штат Мичиган!
Все правильно, не Каламазу. Но давайте прибавим измерение: и не Рим,
Мадрид, Лиссабон, где за месяц играют меньше концертов, чем в Сан-
Франциско за неделю. А по другой шкале - не Нью-Йорк, не Чикаго, не
Лос-Анджелес с более высоким уровнем и более высокими процентами. В
разумной шкале сопоставлений культурную жизнь Сан-Франциско
следует мерить не по Нью-Йорку, Вене и Лондону, с которыми она не
сравнима ни по объему, ни по разнообразию; по "венскому счету" и Токио,
и Москва - два хуторка в степи. Когда бывший москвич вздыхает в
Денвере о временах, когда он мог Плисецкую и Васильева... он не отдает
себе отчета, что русский культурный аналог Денвера не Москва, а Ростов
или Калининград. Настоящий, без условных посторонностей, российский
процент высокой культуры никому не известен. Может пять, может
двадцать пять, но что-то мне говорит, что за ОДИН честный, не
демагогический, процент нынешний (маловероятный идеалист) издатель
подписал бы в собственность душу, не глядя, хоть Богу, хоть черту, хоть
семипудовой купчихе.
 Кажется,
я увлекся... Вернемся к книгам. Действительность, как
водится, сложнее, тотальные оценки ее обедняют, не давая ничего взамен.
В реальности на русской масштабной сетке музыкальная жизнь Сан-
Франциско богаче и разнообразней, но не больше, чем на порядок,
старых (о новых не берусь судить) Москвы и Петербурга;
изобразительная - сравнима с воронежской, книжный мир - ни с чем. Ни с
дореволюционной, ни советской, ни нынешней. Обижаться нечему, в
мире... скажем предельно осторожно и деликатно... мало книжных мест,
сравнимых с Bay Area. Равных я лично нигде не встречал. (Следует
оговориться, мне незнаком германоязычный мир; не видел, не щупал.) По
этой части ему уступают Лондон, Нью-Йорк и даже великие
книгодержавы Барселоны и Милана.
Кажется,
я увлекся... Вернемся к книгам. Действительность, как
водится, сложнее, тотальные оценки ее обедняют, не давая ничего взамен.
В реальности на русской масштабной сетке музыкальная жизнь Сан-
Франциско богаче и разнообразней, но не больше, чем на порядок,
старых (о новых не берусь судить) Москвы и Петербурга;
изобразительная - сравнима с воронежской, книжный мир - ни с чем. Ни с
дореволюционной, ни советской, ни нынешней. Обижаться нечему, в
мире... скажем предельно осторожно и деликатно... мало книжных мест,
сравнимых с Bay Area. Равных я лично нигде не встречал. (Следует
оговориться, мне незнаком германоязычный мир; не видел, не щупал.) По
этой части ему уступают Лондон, Нью-Йорк и даже великие
книгодержавы Барселоны и Милана.

aaa
aaa
3. Корни травы
 Это
великолепие поддерживается мощной инфраструктурой.
Гигантской, сложной, противоречивой. Для дальтоника, видящего мир в
терминах "цивилизованного мира" и "Запада", непонятное; обилие балок,
поддержек, материалов, (зачастую взаимоисключающих) деталей так
велико и ртутно подвижно, что найти двух человек, согласных в ее оценке,
было бы непросто. Тем не менее пройти мимо главных, держащих все
здание опор, мог бы только слепой. (Каковых немало, в каждый данный
момент довольно стабильно число слепых шмаляет по ним топорами. И
это нормально. Тоже люди.)
Это
великолепие поддерживается мощной инфраструктурой.
Гигантской, сложной, противоречивой. Для дальтоника, видящего мир в
терминах "цивилизованного мира" и "Запада", непонятное; обилие балок,
поддержек, материалов, (зачастую взаимоисключающих) деталей так
велико и ртутно подвижно, что найти двух человек, согласных в ее оценке,
было бы непросто. Тем не менее пройти мимо главных, держащих все
здание опор, мог бы только слепой. (Каковых немало, в каждый данный
момент довольно стабильно число слепых шмаляет по ним топорами. И
это нормально. Тоже люди.)
 Наиглавнейшую:
признание за человеком бесконечной сложности,
за человечеством бесконечного разнообразия - современному русскому
интеллигенту видеть легче, чем людям моего поколения. Перечитал, черт,
красиво звучит: "бесконечная сложность"! В сущности, страшная вещь, как
вглядишься во ВСЕ, что в нее входит... Но деваться некуда, фундамент
надо закладывать паскалевским тростником, он обеспечивает двойной
запас прочности. Стихия культуры чем-то сродни местам, где я живу:
райский климат, божественная красота, суперцивилизация - на постоянно
движущихся тектонических плитах: 20 секунд всерьез потрясет - и прости-
прощай. Разве что один климат останется. Да и то сомнительно.
Наиглавнейшую:
признание за человеком бесконечной сложности,
за человечеством бесконечного разнообразия - современному русскому
интеллигенту видеть легче, чем людям моего поколения. Перечитал, черт,
красиво звучит: "бесконечная сложность"! В сущности, страшная вещь, как
вглядишься во ВСЕ, что в нее входит... Но деваться некуда, фундамент
надо закладывать паскалевским тростником, он обеспечивает двойной
запас прочности. Стихия культуры чем-то сродни местам, где я живу:
райский климат, божественная красота, суперцивилизация - на постоянно
движущихся тектонических плитах: 20 секунд всерьез потрясет - и прости-
прощай. Разве что один климат останется. Да и то сомнительно.
 Принимаем риск. Строим дома из гибкого дерева, чтобы качались вместе
с землей. Дорого. Альтернатива одна - уйти. От, от и от.
Эта опора, как видится со стороны, самое узкое место русской
культуры. Нынешнее шараханье от
викторианского
морализаторства классики к столь же
гипертрофированному зоологизму и вульгарности только подчеркивает
трагическую неразбериху и свалку в русском культурном наследии. Это
еще бабка натрое сказала, какова временность этого безвременья. А пока
разве трудно представить себе нормального русского интеллигента,
читающим беседу Воланда с Берлиозом в приемной Кашпировского на
очереди за рецептом "вечной молодости"? Имена и метафоры приходят и
уходят, сюрреализм остается. Он только видимая часть современной
культурно неблагополучной страны, о которой у постороннего
наблюдателя возникает чувство места, где ни Пушкин, ни Бабель еще не
родились. С другой стороны, он, наблюдатель, не может не отметить, что
сама идея тащить за ворот русскую классику в присяжные заседатели на
каждое заседание домкома, суть знак того же неблагополучия.
Принимаем риск. Строим дома из гибкого дерева, чтобы качались вместе
с землей. Дорого. Альтернатива одна - уйти. От, от и от.
Эта опора, как видится со стороны, самое узкое место русской
культуры. Нынешнее шараханье от
викторианского
морализаторства классики к столь же
гипертрофированному зоологизму и вульгарности только подчеркивает
трагическую неразбериху и свалку в русском культурном наследии. Это
еще бабка натрое сказала, какова временность этого безвременья. А пока
разве трудно представить себе нормального русского интеллигента,
читающим беседу Воланда с Берлиозом в приемной Кашпировского на
очереди за рецептом "вечной молодости"? Имена и метафоры приходят и
уходят, сюрреализм остается. Он только видимая часть современной
культурно неблагополучной страны, о которой у постороннего
наблюдателя возникает чувство места, где ни Пушкин, ни Бабель еще не
родились. С другой стороны, он, наблюдатель, не может не отметить, что
сама идея тащить за ворот русскую классику в присяжные заседатели на
каждое заседание домкома, суть знак того же неблагополучия.
 Девятнадцатый
век в почти нетронутом виде передал Двадцатому идею
Восемнадцатого об инженерно-терапевтической роли культуры: и спасет,
и выпрямит, и наставит, и утешит, и гения отделит от злодея. Ни бездны
Шаламова, в которых как в царской водке растворились достоевские, ни
проклятие Боровского, ни молитва с освенцимских нар о милости к
палачам, ни собственная история, ни кхмерская
не смогли убедить русского интеллигента, что культура не
прощает человеку отрицания за собой бесконечной сложности. Жалко
расставаться со старыми верованиями, но современная культура не
выживает в сахарном бульоне; высокая ферментирует в яд.
Девятнадцатый
век в почти нетронутом виде передал Двадцатому идею
Восемнадцатого об инженерно-терапевтической роли культуры: и спасет,
и выпрямит, и наставит, и утешит, и гения отделит от злодея. Ни бездны
Шаламова, в которых как в царской водке растворились достоевские, ни
проклятие Боровского, ни молитва с освенцимских нар о милости к
палачам, ни собственная история, ни кхмерская
не смогли убедить русского интеллигента, что культура не
прощает человеку отрицания за собой бесконечной сложности. Жалко
расставаться со старыми верованиями, но современная культура не
выживает в сахарном бульоне; высокая ферментирует в яд.
 Не проще обстоит с разнообразием человечества. Как ни далек я от
веры в модный фантазм "всемирной деревни", невозможно отрицать, что
ХIХ, Век Империализма вызвал нас из заднего ума в передний. Если
прежде мы узнавали об аварских, китайских, тюркских корнях наших
культур, быта только из глубоких копаний САМЫХ ЛУЧШИХ историков,
во второй половине Двадцатого европо- и прочие центризмы
превратились в нелепый анахронизм. Впрочем, с одним, но удивительным
исключением, на которое обратил внимание американский историк
Бернард Льюис:
изо всех
мировых культур только ВЫСОКАЯ европейская (и ее производные)
разработала систему шлюзов, через которые открывается доступ другим,
и в этом состоит уникальность ее уникальности. Посему открытость
культурного пространства так принципиальна для удержания высокой
культуры. Бега на месте: номинальных признаний, декларированных
телодвижений - как и во всяком другом смертельно серьезном деле,
недостаточно, нужен, как сказал бы Полоний, залог повещественней. Из
двух концепций курицы и яйца: открытость ли культуры предшествует
общественной, или наоборот - я держусь первой.
Не проще обстоит с разнообразием человечества. Как ни далек я от
веры в модный фантазм "всемирной деревни", невозможно отрицать, что
ХIХ, Век Империализма вызвал нас из заднего ума в передний. Если
прежде мы узнавали об аварских, китайских, тюркских корнях наших
культур, быта только из глубоких копаний САМЫХ ЛУЧШИХ историков,
во второй половине Двадцатого европо- и прочие центризмы
превратились в нелепый анахронизм. Впрочем, с одним, но удивительным
исключением, на которое обратил внимание американский историк
Бернард Льюис:
изо всех
мировых культур только ВЫСОКАЯ европейская (и ее производные)
разработала систему шлюзов, через которые открывается доступ другим,
и в этом состоит уникальность ее уникальности. Посему открытость
культурного пространства так принципиальна для удержания высокой
культуры. Бега на месте: номинальных признаний, декларированных
телодвижений - как и во всяком другом смертельно серьезном деле,
недостаточно, нужен, как сказал бы Полоний, залог повещественней. Из
двух концепций курицы и яйца: открытость ли культуры предшествует
общественной, или наоборот - я держусь первой.
 В связи с этим в памяти всплывают два эпизода.
В связи с этим в памяти всплывают два эпизода.
 Стамбул. Необъятное торжище Старого города, где по беглому
ощущению все многолюдье состоит из продающих турок и покупающих
русских. Лучше бы, конечно, без такой однозначности, но - по
историческим обстоятельствам - и это хорошо. Гуляя по базарам и
невольно подслушивая перекрикивания покупателей через головы
продавцов, я постепенно начинаю осознавать, что русский язык выражает
некую культурную реалию, от которой в моем далеке я начисто отвык.
Покупатель презирает продавца! Нет, товар хорош, и дело идет, и он,
продавец - ЧИЧМЕК; хитрый, но дурной, и не по какой другой причине,
кроме той, что он - чичмек. Поговорив раз, другой, третий с турками, я
убедился, что они платят своим партнерам по бизнесу взаимностью. Вот
это экзотика! Картина дополнялась отсутствием в книжных магазинах
переводов с русского и готов держать пари, взаимным вакуумом на
культурных российских просторах. Я могу ошибаться, но отсутствие
русской живописи в переполненных европейским и американским дерьмом
турецких галереях, невозможность даже вообразить русского художника
готовым употребить ту энергию, которую он расходует на шанс
выставиться во вшивой, шестнадцатиразрядной галерее на Hampton
Road в Лондоне за право быть увиденным в лучшей измирской галерее,
объясняется чичмекским атавизмом обеих культур. Архаическое сознание
по-прежнему ассоциирует культуру с политической мощью и
экономической статистикой. (Желающих поразмыслить о том, насколько
эти параметры далеки от культуры, я отсылаю, в частности, к эссе
Милана Кундеры
о мартиникской литературе и списку лауреатов премии Букера за
последнее десятилетие по разделу литературы на английском языке.)
По контрасту: зал сан-франциской филармонии, в программе
Шуберт
и Большая Фуга
Бетховена.
Я оглядываюсь по
сторонам и вижу, что аудитория на треть состоит из молодых и
вдохновенных китайских, вьетнамских, камбоджийских лиц - и мне
становится стыдно, что в отличие от них, вложивших часть своей жизни в
МОЮ музыку, я никогда даже на задумывался о встречном шаге. В
теории, на словах, но - не душой, слухом. Вина - моя: местная концертная
жизнь переполнена драгоценными сплавами, от беспрецедентного,
полной октавой враз вокализа тибетских монахов на сцене и кумиров
местной оперы, пришедших на бесценный урок, в аудитории, до
негритянских джазистов, берущих уроки у мастеров швейцарского
йодля. Потери - мои: разбуженный в стамбульской ночи звуками ни с чем в моем
жизненном опыте не сравнимого пронзительного, экстатически
вдохновенного речитатива нищего трубадура, потрясенный услышанным,
я буду потом целую неделю отчаянно взмахивать руками, пытаясь
объяснить продавцам в музыкальных магазинах, что мне от них надобно;
ни знания, ни понятий, ни слов для этих звуков я нажить не сумел.
И я уже понимаю, что сам собою, без аварийного тормоза, поезд не
остановится.
Стамбул. Необъятное торжище Старого города, где по беглому
ощущению все многолюдье состоит из продающих турок и покупающих
русских. Лучше бы, конечно, без такой однозначности, но - по
историческим обстоятельствам - и это хорошо. Гуляя по базарам и
невольно подслушивая перекрикивания покупателей через головы
продавцов, я постепенно начинаю осознавать, что русский язык выражает
некую культурную реалию, от которой в моем далеке я начисто отвык.
Покупатель презирает продавца! Нет, товар хорош, и дело идет, и он,
продавец - ЧИЧМЕК; хитрый, но дурной, и не по какой другой причине,
кроме той, что он - чичмек. Поговорив раз, другой, третий с турками, я
убедился, что они платят своим партнерам по бизнесу взаимностью. Вот
это экзотика! Картина дополнялась отсутствием в книжных магазинах
переводов с русского и готов держать пари, взаимным вакуумом на
культурных российских просторах. Я могу ошибаться, но отсутствие
русской живописи в переполненных европейским и американским дерьмом
турецких галереях, невозможность даже вообразить русского художника
готовым употребить ту энергию, которую он расходует на шанс
выставиться во вшивой, шестнадцатиразрядной галерее на Hampton
Road в Лондоне за право быть увиденным в лучшей измирской галерее,
объясняется чичмекским атавизмом обеих культур. Архаическое сознание
по-прежнему ассоциирует культуру с политической мощью и
экономической статистикой. (Желающих поразмыслить о том, насколько
эти параметры далеки от культуры, я отсылаю, в частности, к эссе
Милана Кундеры
о мартиникской литературе и списку лауреатов премии Букера за
последнее десятилетие по разделу литературы на английском языке.)
По контрасту: зал сан-франциской филармонии, в программе
Шуберт
и Большая Фуга
Бетховена.
Я оглядываюсь по
сторонам и вижу, что аудитория на треть состоит из молодых и
вдохновенных китайских, вьетнамских, камбоджийских лиц - и мне
становится стыдно, что в отличие от них, вложивших часть своей жизни в
МОЮ музыку, я никогда даже на задумывался о встречном шаге. В
теории, на словах, но - не душой, слухом. Вина - моя: местная концертная
жизнь переполнена драгоценными сплавами, от беспрецедентного,
полной октавой враз вокализа тибетских монахов на сцене и кумиров
местной оперы, пришедших на бесценный урок, в аудитории, до
негритянских джазистов, берущих уроки у мастеров швейцарского
йодля. Потери - мои: разбуженный в стамбульской ночи звуками ни с чем в моем
жизненном опыте не сравнимого пронзительного, экстатически
вдохновенного речитатива нищего трубадура, потрясенный услышанным,
я буду потом целую неделю отчаянно взмахивать руками, пытаясь
объяснить продавцам в музыкальных магазинах, что мне от них надобно;
ни знания, ни понятий, ни слов для этих звуков я нажить не сумел.
И я уже понимаю, что сам собою, без аварийного тормоза, поезд не
остановится.
 Подобно рынку, инфраструктура вещь отнюдь не механическая,
она хороша ровно настолько, насколько хороши со-участвующие в ней
люди, и воображать ее демиургом, палочкой-выручалочкой, скатертью-
самобранкой было бы актом трагического самообмана, в пару недавнему
кошмару МЕХАНИСТИЧЕСКОГО марксизма. Каждый ее элемент вызван
к жизни не столько хитроумием экономических правил, сколько
следованием за живой реальностью, которая, в свой черед, заряжена
метафизикой, более менее жесткими принципами, коих инфраструктура
лишь разжиженное, временное воплощение.
Подобно рынку, инфраструктура вещь отнюдь не механическая,
она хороша ровно настолько, насколько хороши со-участвующие в ней
люди, и воображать ее демиургом, палочкой-выручалочкой, скатертью-
самобранкой было бы актом трагического самообмана, в пару недавнему
кошмару МЕХАНИСТИЧЕСКОГО марксизма. Каждый ее элемент вызван
к жизни не столько хитроумием экономических правил, сколько
следованием за живой реальностью, которая, в свой черед, заряжена
метафизикой, более менее жесткими принципами, коих инфраструктура
лишь разжиженное, временное воплощение.
 Вечер поэзии Селана, о котором я упоминал, происходил в большом
книжном магазине, в витрине которого висел рукописный плакат,
призывающий нас поддерживать НЕЗАВИСИМУЮ книготорговлю. От
кого не зависимую? От гигантских торговых домов, все дальше и дальше
задвигающих в пятый угол маленькие книжные магазинчики. За годы, что
я живу в городе, некогда цветущая клумба магазинчиков была почти
заподлицо сравнена с землей паровыми катками монополий. Особой
сентиментальности их судьба у меня не вызывала; экономическая сторона
такого развития событий была скорее благоприятной, цены торговых
домов ниже, выбор ПОЧТИ не отличался, а когда отличался, не всегда в
пользу клумбы; уюту, непринужденной домашней атмосфере маленьких
гиганты противопоставили свои, ни в чем на самом деле не хуже, а,
пожалуй, в определенных деталях, лучше (светлее, воздух чище). Короче,
для постороннего, не напряженного американскими сложностями уха,
плакатный вопль пребывал в ультразвуковом спектре частот. О чем он
просил? Он взывал к сохранению "ПОЧТИ", к принципам бесконечной
сложности и всеобщности, и надо долго пожить на свете, рабом и
свободным, чтобы понимать, что ничто не обходится так
ЭКОНОМИЧЕСКИ дорого, как уценка фундаментальных принципов. О
да, неразделимы. "ПОЧТИ" может на девяносто девять и девять десятых
процента состоять из книг, которые я никогда не возьму в руки, каких-
нибудь комиксов, суперэкзотических поваренных книг, техники онанизма
в положении вверх ногами, руководства по разведению австралийских
бобров - и рупь на сто, на каждую найдется свой умник, дурак,
сумасшедший. Все дело - для каждого из нас! - в таинственной одной
сотой, что в ней?! И если верить, что Дух Божий веет, где хочет (а я верю),
она становится критической. Никакой в здравом уме человек не может
ожидать от большого бизнеса знания интересов экономически,
демографически ничтожной сотой. Даже предельно напрягшись, он
должен воплотиться в гегелевского мирового духа, на худой конец
обзавестись претензиями в его земной пародии - тоталитарного
государства, чтобы подозревать о ней, пуще того - стараться
удовлетворить ее нужды, и совсем не представимо - потрафлять ее
капризам. А как знать, чем обернется сегодняшний каприз?
компьютерами? квинтетом, с которого завтра начнется другая жизнь?
увянувшей бессмыслицей?
фотографией забытого Богом места,
красота которого как метлой выметет из сознания
патентованные виды? Не представляю, но зато я твердо усвоил, что этого
никто наперед знать не может по определению. И потому выбор стороны
в тяжбе за эффективность опирается на определение.
Вечер поэзии Селана, о котором я упоминал, происходил в большом
книжном магазине, в витрине которого висел рукописный плакат,
призывающий нас поддерживать НЕЗАВИСИМУЮ книготорговлю. От
кого не зависимую? От гигантских торговых домов, все дальше и дальше
задвигающих в пятый угол маленькие книжные магазинчики. За годы, что
я живу в городе, некогда цветущая клумба магазинчиков была почти
заподлицо сравнена с землей паровыми катками монополий. Особой
сентиментальности их судьба у меня не вызывала; экономическая сторона
такого развития событий была скорее благоприятной, цены торговых
домов ниже, выбор ПОЧТИ не отличался, а когда отличался, не всегда в
пользу клумбы; уюту, непринужденной домашней атмосфере маленьких
гиганты противопоставили свои, ни в чем на самом деле не хуже, а,
пожалуй, в определенных деталях, лучше (светлее, воздух чище). Короче,
для постороннего, не напряженного американскими сложностями уха,
плакатный вопль пребывал в ультразвуковом спектре частот. О чем он
просил? Он взывал к сохранению "ПОЧТИ", к принципам бесконечной
сложности и всеобщности, и надо долго пожить на свете, рабом и
свободным, чтобы понимать, что ничто не обходится так
ЭКОНОМИЧЕСКИ дорого, как уценка фундаментальных принципов. О
да, неразделимы. "ПОЧТИ" может на девяносто девять и девять десятых
процента состоять из книг, которые я никогда не возьму в руки, каких-
нибудь комиксов, суперэкзотических поваренных книг, техники онанизма
в положении вверх ногами, руководства по разведению австралийских
бобров - и рупь на сто, на каждую найдется свой умник, дурак,
сумасшедший. Все дело - для каждого из нас! - в таинственной одной
сотой, что в ней?! И если верить, что Дух Божий веет, где хочет (а я верю),
она становится критической. Никакой в здравом уме человек не может
ожидать от большого бизнеса знания интересов экономически,
демографически ничтожной сотой. Даже предельно напрягшись, он
должен воплотиться в гегелевского мирового духа, на худой конец
обзавестись претензиями в его земной пародии - тоталитарного
государства, чтобы подозревать о ней, пуще того - стараться
удовлетворить ее нужды, и совсем не представимо - потрафлять ее
капризам. А как знать, чем обернется сегодняшний каприз?
компьютерами? квинтетом, с которого завтра начнется другая жизнь?
увянувшей бессмыслицей?
фотографией забытого Богом места,
красота которого как метлой выметет из сознания
патентованные виды? Не представляю, но зато я твердо усвоил, что этого
никто наперед знать не может по определению. И потому выбор стороны
в тяжбе за эффективность опирается на определение.
 Экономика? Ах, кабы все так просто, какая радость бы осталась от
труда свободы?! Кто бы знал, как тяжело быть ангелом в книжном раю?
Строго говоря, ничто в Америке настолько не соответствует школярскому
пониманию рынка как книжное разнообразие наших мест. Пой душа!
Человек я, скажем мягко, не богатый, но книжной собственностью не
обижен. Разрешить рыночную квадратуру круга мне позволяет идеальное
состояние самого рынка. Наметив книгу, я терпеливо жду ее выхода в
дешевой мягкой обложке, потом так же терпеливо выслеживаю в
квартальных, праздничных распродажах, клубных
предложениях, десятках букинистских, ярмарочных лотках - короче, мы с
инфраструктурой дружим. (Нет, жизни не трачу, на идеальном рынке это
происходит не без труда, но и без сверхусилий.) Пару лет назад, однажды
вечером я всполошил семью страшным индейским воплем! Смотри, ткнул я
перепуганной жене каталог, вышла из печати книга N... я уже два года ее
жду! Отлично, успокоилась она, закажи. Ты за кого меня принимаешь,
удивился я, за Билла Гейтса, она стоит двадцать пять долларов?! Не
волнуйся, отловлю. Ну ты и вонючка, неожиданно рассердилась она,
экономить на авторе, который ополноценивает твою жизнь, не
поддерживать его полагающимися от продажи каждого экземпляра
комиссионными?! От покупки в букинистическом ему причитается ноль.
Сколько людей его ценят как ты? пара тысяч на всем земном шаре? кто ж,
кроме нас, даст ему возможность жить, растить детей, написать
следующую книгу?! Выписывай чек. Я был потрясен! Как же я, вечно
долдонящий о связи всего со всем, мог не видеть, что ПРОДАЮ ПРАВО
ПЕРВОРОДСТВА ЗА ЧЕЧЕВИЧНУЮ ПОХЛЕБКУ, мешаю с дерьмом
так тяжело мне доставшуюся, так непросто существующую в природе
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЗАИМНОСТИ?!
Экономика? Ах, кабы все так просто, какая радость бы осталась от
труда свободы?! Кто бы знал, как тяжело быть ангелом в книжном раю?
Строго говоря, ничто в Америке настолько не соответствует школярскому
пониманию рынка как книжное разнообразие наших мест. Пой душа!
Человек я, скажем мягко, не богатый, но книжной собственностью не
обижен. Разрешить рыночную квадратуру круга мне позволяет идеальное
состояние самого рынка. Наметив книгу, я терпеливо жду ее выхода в
дешевой мягкой обложке, потом так же терпеливо выслеживаю в
квартальных, праздничных распродажах, клубных
предложениях, десятках букинистских, ярмарочных лотках - короче, мы с
инфраструктурой дружим. (Нет, жизни не трачу, на идеальном рынке это
происходит не без труда, но и без сверхусилий.) Пару лет назад, однажды
вечером я всполошил семью страшным индейским воплем! Смотри, ткнул я
перепуганной жене каталог, вышла из печати книга N... я уже два года ее
жду! Отлично, успокоилась она, закажи. Ты за кого меня принимаешь,
удивился я, за Билла Гейтса, она стоит двадцать пять долларов?! Не
волнуйся, отловлю. Ну ты и вонючка, неожиданно рассердилась она,
экономить на авторе, который ополноценивает твою жизнь, не
поддерживать его полагающимися от продажи каждого экземпляра
комиссионными?! От покупки в букинистическом ему причитается ноль.
Сколько людей его ценят как ты? пара тысяч на всем земном шаре? кто ж,
кроме нас, даст ему возможность жить, растить детей, написать
следующую книгу?! Выписывай чек. Я был потрясен! Как же я, вечно
долдонящий о связи всего со всем, мог не видеть, что ПРОДАЮ ПРАВО
ПЕРВОРОДСТВА ЗА ЧЕЧЕВИЧНУЮ ПОХЛЕБКУ, мешаю с дерьмом
так тяжело мне доставшуюся, так непросто существующую в природе
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЗАИМНОСТИ?!
 Экономика, инфра-, ультра- структуры начинаются отсюда.
Экономика, инфра-, ультра- структуры начинаются отсюда.

aaa
aaa
4. Это сладкое чувство...
 Если
бы кто-то спросил меня, зачем я пишу эти никому не нужные
заметки о не Бог весть какой проблеме - подойти к полке и снять с нее
хорошую книгу, я бы чистосердечно ответил: а вдруг... А вдруг кому-
нибудь передастся чувство сладкого унижения, которое я испытываю
каждый раз при встрече с книжными сокровищами мира. Раз в неделю я
иду в обход (не обижая музыкальных) подряд: по дворцам, лавкам, захожу
в мексиканский, итальянский, китайские, корейский, первый русский,
немецкий, второй русский, к просто мусульманам и к Черным, в еврейский,
индийский; в Логос, где на двух этажах от пола до потолка громоздятся на
всех языках и наречиях Библии, Кораны, Веды, Торы, комментарии,
жития, писания, монографии; в Шамбалу ("Калифорния - это где магазин
Шамбала?" - почтительно поинтересовался молодой продавец в
крохотном галисийском городке на северо-востоке Испании.),
разливанное море мистицизма, оккульта и где, похоже, каждый гуру на
свете, подлинный и графоман, оставил след; потом выше, по той же
стороне, в Коди, который при полном почтении к грандам литературы
может рядом с хрестоматийным Китсом поставить на полку самиздатную
первую книжку стихов местного поэта и где я недавно как
Вий
скрипел зубами, беря один за другим новехонькие томики "Библиотеки прозы ХХ
века" (от России пока: Тынянов и Соллогуб) - о, где ты, молодость? почему
я не мог читать гениального португальца Пессоа, ЗА ЧТО отобрали у
меня Броха и Монтерлана?; за угол - в лавку "Декарт", перекинуться
парой слов с хозяином о его находках; он держит небольшой изысканный
философско-исторический набор, чистый протеин, и я его уже не раз
предупреждал, что перед выходом на пенсию я его непременно ограблю;
он смеется, просит научить сидящего над кассой попугая новому слову, и я
озадачиваю бедную птичку картавым криком "Эмпириокритицизм!".
Если
бы кто-то спросил меня, зачем я пишу эти никому не нужные
заметки о не Бог весть какой проблеме - подойти к полке и снять с нее
хорошую книгу, я бы чистосердечно ответил: а вдруг... А вдруг кому-
нибудь передастся чувство сладкого унижения, которое я испытываю
каждый раз при встрече с книжными сокровищами мира. Раз в неделю я
иду в обход (не обижая музыкальных) подряд: по дворцам, лавкам, захожу
в мексиканский, итальянский, китайские, корейский, первый русский,
немецкий, второй русский, к просто мусульманам и к Черным, в еврейский,
индийский; в Логос, где на двух этажах от пола до потолка громоздятся на
всех языках и наречиях Библии, Кораны, Веды, Торы, комментарии,
жития, писания, монографии; в Шамбалу ("Калифорния - это где магазин
Шамбала?" - почтительно поинтересовался молодой продавец в
крохотном галисийском городке на северо-востоке Испании.),
разливанное море мистицизма, оккульта и где, похоже, каждый гуру на
свете, подлинный и графоман, оставил след; потом выше, по той же
стороне, в Коди, который при полном почтении к грандам литературы
может рядом с хрестоматийным Китсом поставить на полку самиздатную
первую книжку стихов местного поэта и где я недавно как
Вий
скрипел зубами, беря один за другим новехонькие томики "Библиотеки прозы ХХ
века" (от России пока: Тынянов и Соллогуб) - о, где ты, молодость? почему
я не мог читать гениального португальца Пессоа, ЗА ЧТО отобрали у
меня Броха и Монтерлана?; за угол - в лавку "Декарт", перекинуться
парой слов с хозяином о его находках; он держит небольшой изысканный
философско-исторический набор, чистый протеин, и я его уже не раз
предупреждал, что перед выходом на пенсию я его непременно ограблю;
он смеется, просит научить сидящего над кассой попугая новому слову, и я
озадачиваю бедную птичку картавым криком "Эмпириокритицизм!".
 Иногда
без нужды, исключительно сладкого унижения ради, руки за
спиной, даже не листаю, любуюсь, и сердце млеет от сознания, что уже
никогда не прочитать большинства из них, не узнать, чего я никогда не
знал, и уже не узнаю; что они были, есть и будут, когда от меня останется
пара капель дождевой воды. Всякая живая тварь за Земле знает свою
нишу, один человек вывихнулся, гадает о собственной мере. И здесь, у
столов и полок, в рассеянных воспоминаниях о глупом самонадеянном
пришельце, еще не так давно полагавшем, будто "Иностранка" с
районной библиотекой подносили ему на блюдечке с голубой каемочкой
сбитые сливки мировой культуры, что все, кроме Русской Литературы и
Истории относится к разделу "Итд", я чувствую, буквально, кожей, что и
они, книги, не без любопытства, но отстраненно взвешивают мои силы. И
я, и они знаем правила игры: взять с прилавка, снять с полки не трудно, но
с этого момента начнется испытание на прочность. Культура не только
способ укрепляться на своей земле, но и высшая после Бога форма
самоотрицания. Я часто падал, не умел, самоутверждался в вымороченном
идеализме, отказывался следовать в пустоту, дрыгал ногами; когда шел не
туда, не за тем. Каждая книга несла в себе открытия, далеко
простирающиеся за оглавление и содержание, она была частью
необъятной реальности, многое из того, что я узнал об этом мире, было
следствием попыток - из которых нажитое: ПОЧТИ - всегда безуспешных
ввести мою ежедневную Америку под переплет, вывести из-под. Книгам
это известно. Я праздную бессчетные поражения наравне со считанными
победами, вот только почему-то стыд поражений слаще.
Иногда
без нужды, исключительно сладкого унижения ради, руки за
спиной, даже не листаю, любуюсь, и сердце млеет от сознания, что уже
никогда не прочитать большинства из них, не узнать, чего я никогда не
знал, и уже не узнаю; что они были, есть и будут, когда от меня останется
пара капель дождевой воды. Всякая живая тварь за Земле знает свою
нишу, один человек вывихнулся, гадает о собственной мере. И здесь, у
столов и полок, в рассеянных воспоминаниях о глупом самонадеянном
пришельце, еще не так давно полагавшем, будто "Иностранка" с
районной библиотекой подносили ему на блюдечке с голубой каемочкой
сбитые сливки мировой культуры, что все, кроме Русской Литературы и
Истории относится к разделу "Итд", я чувствую, буквально, кожей, что и
они, книги, не без любопытства, но отстраненно взвешивают мои силы. И
я, и они знаем правила игры: взять с прилавка, снять с полки не трудно, но
с этого момента начнется испытание на прочность. Культура не только
способ укрепляться на своей земле, но и высшая после Бога форма
самоотрицания. Я часто падал, не умел, самоутверждался в вымороченном
идеализме, отказывался следовать в пустоту, дрыгал ногами; когда шел не
туда, не за тем. Каждая книга несла в себе открытия, далеко
простирающиеся за оглавление и содержание, она была частью
необъятной реальности, многое из того, что я узнал об этом мире, было
следствием попыток - из которых нажитое: ПОЧТИ - всегда безуспешных
ввести мою ежедневную Америку под переплет, вывести из-под. Книгам
это известно. Я праздную бессчетные поражения наравне со считанными
победами, вот только почему-то стыд поражений слаще.
|