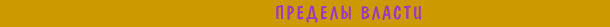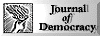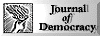 |
 |
Первоначально опубликовано в Journal of Democracy, 1995, vol. 6, # 1, p. 23-28.
 Гильермо О'Доннелл (Guillermo O'Donnell) - аргентинский политолог, специалист по международным отношениям. Автор работ "Модернизация и бюрократический авторитаризм" (1973); "Бюрократический авторитаризм: Аргентина, 1966-1973. Сравнительная перспектива" (1988) и "Переход от авторитарных к другим системам правления" (1986) (в соавторстве с Филиппом К. Шмиттером и Лоуренсом Уайтхедом).
Гильермо О'Доннелл (Guillermo O'Donnell) - аргентинский политолог, специалист по международным отношениям. Автор работ "Модернизация и бюрократический авторитаризм" (1973); "Бюрократический авторитаризм: Аргентина, 1966-1973. Сравнительная перспектива" (1988) и "Переход от авторитарных к другим системам правления" (1986) (в соавторстве с Филиппом К. Шмиттером и Лоуренсом Уайтхедом).
 Дискуссии о положении зарождающихся демократий часто кажутся столь безрезультатными, что вызывают в памяти старую дилемму: назвать ли стакан наполовину пустым или наполовину полным. Такая неопределенность связана с тем, что перспективы новых демократических государств пока неясны и при составлении прогнозов исследователи вынуждены учитывать одни факторы и игнорировать другие. Дискуссии о положении зарождающихся демократий часто кажутся столь безрезультатными, что вызывают в памяти старую дилемму: назвать ли стакан наполовину пустым или наполовину полным. Такая неопределенность связана с тем, что перспективы новых демократических государств пока неясны и при составлении прогнозов исследователи вынуждены учитывать одни факторы и игнорировать другие.
 Почти все политологи соглашаются с тем, что "политическая демократия" означает как минимум сравнительно свободные и соревновательные выборы, выявляющие предпочтения избирателей и позволяющие победителям занять большинство ведущих постов в правительстве. Некоторые авторы называют демократической любую страну, где подобные выборы проводятся, в то время как другие задаются еще и вопросом, обладают ли избранные представители достаточными полномочиями или же в государстве существуют ключевые и при этом невыборные должности, не подлежащие контролю со стороны выборных властей. Еще одна группа исследователей, даже соглашаясь, что подсчет голосов на выборах был честным, желает уяснить, все ли кандидаты могли в равной мере пользоваться СМИ и справедливы ли процедуры регистрации избирателей. Как мы видим, даже столь конкретное определение политической демократии оставляет достаточно места для расхождений.
Почти все политологи соглашаются с тем, что "политическая демократия" означает как минимум сравнительно свободные и соревновательные выборы, выявляющие предпочтения избирателей и позволяющие победителям занять большинство ведущих постов в правительстве. Некоторые авторы называют демократической любую страну, где подобные выборы проводятся, в то время как другие задаются еще и вопросом, обладают ли избранные представители достаточными полномочиями или же в государстве существуют ключевые и при этом невыборные должности, не подлежащие контролю со стороны выборных властей. Еще одна группа исследователей, даже соглашаясь, что подсчет голосов на выборах был честным, желает уяснить, все ли кандидаты могли в равной мере пользоваться СМИ и справедливы ли процедуры регистрации избирателей. Как мы видим, даже столь конкретное определение политической демократии оставляет достаточно места для расхождений.
 Сторонники более развернутых определений демократии (например, включающих требование социальной справедливости) применяют еще более строгие критерии. Поборники "золотой середины" (например, я) говорят, что было бы разумнее исключить критерии социального или экономического равенства из определения демократии, но тем не менее называют ряд факторов, которые следует учитывать. Мне кажется, например, весьма существенным вопрос о том, в какой мере соблюдаются права граждан и вообще правопорядок в разных слоях населения и разных регионах рассматриваемой страны. Если обнаружится, что лишь небольшой процент населения пользуется правами и гарантиями, установленными формально демократической конституцией, то демократический характер данной страны следует поставить под сомнение.
Сторонники более развернутых определений демократии (например, включающих требование социальной справедливости) применяют еще более строгие критерии. Поборники "золотой середины" (например, я) говорят, что было бы разумнее исключить критерии социального или экономического равенства из определения демократии, но тем не менее называют ряд факторов, которые следует учитывать. Мне кажется, например, весьма существенным вопрос о том, в какой мере соблюдаются права граждан и вообще правопорядок в разных слоях населения и разных регионах рассматриваемой страны. Если обнаружится, что лишь небольшой процент населения пользуется правами и гарантиями, установленными формально демократической конституцией, то демократический характер данной страны следует поставить под сомнение.
 Если достижение демократии, даже несовершенной или неполной, уже само по себе благо, то не менее важным является также ее упрочение (или "консолидация"). На вопрос о том, как лучше всего обеспечить консолидацию демократии, разные исследователи отвечают по-разному. Некоторые делают упор на развитие политической культуры, утверждая, что если мы стремимся к консолидированной демократии (не говоря уж о более полной или лучшей демократии), то должны сделать как можно больше людей демократами. Это вполне разумное предположение. Беда лишь в том, что воспитание достаточно большого количества демократов займет много времени, а опасности угрожают новым демократиям уже сейчас.
Если достижение демократии, даже несовершенной или неполной, уже само по себе благо, то не менее важным является также ее упрочение (или "консолидация"). На вопрос о том, как лучше всего обеспечить консолидацию демократии, разные исследователи отвечают по-разному. Некоторые делают упор на развитие политической культуры, утверждая, что если мы стремимся к консолидированной демократии (не говоря уж о более полной или лучшей демократии), то должны сделать как можно больше людей демократами. Это вполне разумное предположение. Беда лишь в том, что воспитание достаточно большого количества демократов займет много времени, а опасности угрожают новым демократиям уже сейчас.
 Именно поэтому те, кто стремится содействовать демократии, предпочитают опираться на политические институты, которые можно спроектировать с различной степенью подражательности или оригинальности и при этом довольно быстро. Мы знаем, каких сочетаний институтов следует избегать 1. Однако нам мало что известно об относительных достоинствах и недостатках той или иной системы институтов и еще меньше - о том, как (и какой ценой) совершается переход от одной системы к другой, казалось бы, лучшей 2. Доказательства типа "если институт X работает в стране А, то он должен работать и в стране В" (дежурный довод консультантов, которые тратят по одной неделе на одну страну) теперь почти повсеместно воспринимаются со здоровым скептицизмом. Серьезные институционалисты знают, что институты, наподобие тонких вин, хорошо переносят перемещения в пространстве лишь при соблюдении особых условий. К тому же институты сами по себе не решают полностью проблему консолидации демократии.
Именно поэтому те, кто стремится содействовать демократии, предпочитают опираться на политические институты, которые можно спроектировать с различной степенью подражательности или оригинальности и при этом довольно быстро. Мы знаем, каких сочетаний институтов следует избегать 1. Однако нам мало что известно об относительных достоинствах и недостатках той или иной системы институтов и еще меньше - о том, как (и какой ценой) совершается переход от одной системы к другой, казалось бы, лучшей 2. Доказательства типа "если институт X работает в стране А, то он должен работать и в стране В" (дежурный довод консультантов, которые тратят по одной неделе на одну страну) теперь почти повсеместно воспринимаются со здоровым скептицизмом. Серьезные институционалисты знают, что институты, наподобие тонких вин, хорошо переносят перемещения в пространстве лишь при соблюдении особых условий. К тому же институты сами по себе не решают полностью проблему консолидации демократии.
 Вероятно, из-за того, что политологи до сих пор не пришли к согласию по поводу определений и не выработали надежных политических рекомендаций, им было отведено скромное место рядом с экономикой или, точнее, рядом с некоторыми экономистами. Эти экономисты, ссылаясь на идеи, более или менее беззастенчиво заимствованные из теоретических трудов, и будучи при этом сотрудниками международных финансовых учреждений, полны желания подсказать правительствам новых демократических государств, что следует делать. Надо отдать им должное: они в самом деле объяснили, как приостановить инфляцию и уменьшить бюджетный дефицит и дефицит платежного баланса. Но при этом никто из них не знает, как использовать эти частные достижения в качестве трамплина для длительного экономического роста. Более того, основные институционалисты - сторонники подобных взглядов, особенно Всемирный Банк, стали обращать внимание на отрицательные последствия, вызванные их же рецептами экономической адаптации. Во многих странах реформы, рекомендованные Всемирным Банком, привели к разорению государства, гибельному для долгосрочного экономического развития.
Вероятно, из-за того, что политологи до сих пор не пришли к согласию по поводу определений и не выработали надежных политических рекомендаций, им было отведено скромное место рядом с экономикой или, точнее, рядом с некоторыми экономистами. Эти экономисты, ссылаясь на идеи, более или менее беззастенчиво заимствованные из теоретических трудов, и будучи при этом сотрудниками международных финансовых учреждений, полны желания подсказать правительствам новых демократических государств, что следует делать. Надо отдать им должное: они в самом деле объяснили, как приостановить инфляцию и уменьшить бюджетный дефицит и дефицит платежного баланса. Но при этом никто из них не знает, как использовать эти частные достижения в качестве трамплина для длительного экономического роста. Более того, основные институционалисты - сторонники подобных взглядов, особенно Всемирный Банк, стали обращать внимание на отрицательные последствия, вызванные их же рецептами экономической адаптации. Во многих странах реформы, рекомендованные Всемирным Банком, привели к разорению государства, гибельному для долгосрочного экономического развития.
|