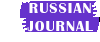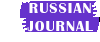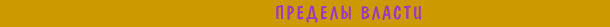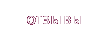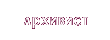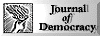 |
 |
 Первоначально опубликовано в Journal of Devocracy, 1995, vol. 6, № 2, р. 20-33. Первоначально опубликовано в Journal of Devocracy, 1995, vol. 6, № 2, р. 20-33.
 Фрэнсис Фукуяма является старшим научным сотрудником корпорации RAND в Вашингтоне. Ранее работал в качестве заместителя директора Управления политического планирования Государственного департамента США. Автор книги "Конец истории и последний человек" (1992). Его новая книга, посвященная проблемам социального капитала и экономики, выходит в свет в 1995 году. Данное эссе представляет собой доклад, сделанный на конференции, проводимой Институтом исследований национальной политики в июне 1994 года в городе Тайбэй на Тайване. Фрэнсис Фукуяма является старшим научным сотрудником корпорации RAND в Вашингтоне. Ранее работал в качестве заместителя директора Управления политического планирования Государственного департамента США. Автор книги "Конец истории и последний человек" (1992). Его новая книга, посвященная проблемам социального капитала и экономики, выходит в свет в 1995 году. Данное эссе представляет собой доклад, сделанный на конференции, проводимой Институтом исследований национальной политики в июне 1994 года в городе Тайбэй на Тайване.
 Прошлогодний факт телесного наказания за вандализм американского старшеклассника Майкла Фэя властями Сингапура вновь привлек внимание к тому вызову, который азиатские страны уже бросили Соединенным Штатам и другим западным демократиям. Вопрос в данном случае не сводится лишь к тому, имеет ли право Сингапур, будучи суверенным государством, применять к американскому экспатрианту свои законы и правила судопроизводства. Вопрос на самом деле гораздо глубже. Фактически Сингапур воспользовался делом Майкла Фэя, чтобы поставить вопрос о преимуществе своей разновидности авторитаризма и заявить, что американская демократия с ее острейшими социальными проблемами и всеобщим разладом не может служить образцом для азиатского общества. Это заявление представляет собой элемент более широкой кампании, которую Сингапур во главе с бывшим премьер-министром Ли Куанг Ю начал некоторое время назад. Эта кампания направлена на то, чтобы доказать несовместимость западной демократии с конфуцианством и продемонстрировать, что последнее более органично в роли идеологического фундамента высокоорганизованного азиатского общества, чем западные принципы индивидуальной свободы. 1 Граждане Сингапура, которые наиболее откровенно и открыто исповедуют эту точку зрения, в последнее время приобрели многочисленных сторонников и в других азиатских обществах, от Таиланда до Японии. Уже сейчас это сказывается на положении Соединенных Штатов в Азии. Так, по вопросу применения торговых санкций к Китаю с целью заставить его соблюдать права человека, Вашингтон почти не нашел поддержки в регионе, в результате чего ему пришлось отказаться от намерения лишить Китай статуса нации наибольшего благоприятствования. Прошлогодний факт телесного наказания за вандализм американского старшеклассника Майкла Фэя властями Сингапура вновь привлек внимание к тому вызову, который азиатские страны уже бросили Соединенным Штатам и другим западным демократиям. Вопрос в данном случае не сводится лишь к тому, имеет ли право Сингапур, будучи суверенным государством, применять к американскому экспатрианту свои законы и правила судопроизводства. Вопрос на самом деле гораздо глубже. Фактически Сингапур воспользовался делом Майкла Фэя, чтобы поставить вопрос о преимуществе своей разновидности авторитаризма и заявить, что американская демократия с ее острейшими социальными проблемами и всеобщим разладом не может служить образцом для азиатского общества. Это заявление представляет собой элемент более широкой кампании, которую Сингапур во главе с бывшим премьер-министром Ли Куанг Ю начал некоторое время назад. Эта кампания направлена на то, чтобы доказать несовместимость западной демократии с конфуцианством и продемонстрировать, что последнее более органично в роли идеологического фундамента высокоорганизованного азиатского общества, чем западные принципы индивидуальной свободы. 1 Граждане Сингапура, которые наиболее откровенно и открыто исповедуют эту точку зрения, в последнее время приобрели многочисленных сторонников и в других азиатских обществах, от Таиланда до Японии. Уже сейчас это сказывается на положении Соединенных Штатов в Азии. Так, по вопросу применения торговых санкций к Китаю с целью заставить его соблюдать права человека, Вашингтон почти не нашел поддержки в регионе, в результате чего ему пришлось отказаться от намерения лишить Китай статуса нации наибольшего благоприятствования.
 Действительно ли существует изначальная природная несовместимость конфуцианства и западной демократии? Действительно ли Азия способна выработать новый тип политико-экономического устройства, которое будет принципиально отличаться от западной капиталистической демократии? На самом деле у конфуцианства и демократии меньше несовместимых черт, чем думают многие, как в Азии, так и на Западе. Суть послевоенной "теории модернизации" правильно отражает действительность: экономическое развитие, как правило, сопровождается политической либерализацией. 2 Если сохранятся высокие темпы экономического роста, наблюдавшиеся в Азии в последние годы, процесс демократизации в регионе также будет продолжаться. Однако, окончательный результат, возможно, будет значительно отличаться от современной американской демократии, которая испытывала и испытывает серьезные трудности в деле согласования индивидуальных прав и свобод с интересами социальной общности. Действительно ли существует изначальная природная несовместимость конфуцианства и западной демократии? Действительно ли Азия способна выработать новый тип политико-экономического устройства, которое будет принципиально отличаться от западной капиталистической демократии? На самом деле у конфуцианства и демократии меньше несовместимых черт, чем думают многие, как в Азии, так и на Западе. Суть послевоенной "теории модернизации" правильно отражает действительность: экономическое развитие, как правило, сопровождается политической либерализацией. 2 Если сохранятся высокие темпы экономического роста, наблюдавшиеся в Азии в последние годы, процесс демократизации в регионе также будет продолжаться. Однако, окончательный результат, возможно, будет значительно отличаться от современной американской демократии, которая испытывала и испытывает серьезные трудности в деле согласования индивидуальных прав и свобод с интересами социальной общности.
 Теория модернизации подтверждается Теория модернизации подтверждается
 Хотя в последнее время стало "политически некорректным" защищать теорию модернизации, можно считать, что она относительно неплохо выдержала испытание временем. В основополагающей статье, вышедшей в свет в 1959 году, Сеймур Мартин Липсет отмечал очевидную, эмпирически наблюдаемую взаимосвязь между высоким уровнем экономического развития и прочной демократией. 3 Хотя тезис о том, что экономическое развитие влечет политическую либерализацию, до сих пор вызывает бесконечные споры, он получил тем не менее серьезное подтверждение в середине семидесятых, когда начались демократические преобразования в ряде стран. Сегодня его можно считать более убедительным, чем когда он был впервые сформулирован. 4 Хотя в последнее время стало "политически некорректным" защищать теорию модернизации, можно считать, что она относительно неплохо выдержала испытание временем. В основополагающей статье, вышедшей в свет в 1959 году, Сеймур Мартин Липсет отмечал очевидную, эмпирически наблюдаемую взаимосвязь между высоким уровнем экономического развития и прочной демократией. 3 Хотя тезис о том, что экономическое развитие влечет политическую либерализацию, до сих пор вызывает бесконечные споры, он получил тем не менее серьезное подтверждение в середине семидесятых, когда начались демократические преобразования в ряде стран. Сегодня его можно считать более убедительным, чем когда он был впервые сформулирован. 4
 Связь между развитием и демократией наиболее наглядна в Азии. В государствах региона созданы постоянно действующие демократические институты, причем приблизительно в той же последовательности, в какой эти государства начинали свой экономический подъем - от Японии и до Южной Кореи (где первые действительно свободные выборы состоялись в 1992) и Тайваня (где свободные парламентские выборы запланированы на конец этого года). Кроме того, в Китае, Таиланде и Бирме ряд демократических движений потерпел поражение, однако даже эти примеры свидетельствуют о существующей связи между развитием и демократией. Так, например, в Китае и в Таиланде лидеры продемократических движений, как правило, были относительно высокообразованными, космополитически ориентированными представителями "среднего класса" - тип личности, который начал возникать на ранних этапах ускорения экономического роста. Единственным исключением являются Филиппины - страна, где несмотря на самый низкий доход на душу населения из всех некоммунистических государств Юго-Восточной Азии, демократия утвердилась еще со времен выборов Корасон Акино в 1986 году. С другой стороны, не следует забывать, что демократии на Филиппинах не было бы, если бы не прямое влияние Соединенных Штатов. Кроме того, демократическая практика там не закреплена в стабильных демократических институтах, а сельские районы страны, где сохраняются полуфеодальные отношения, представляют собой один из немногих оставшихся в Азии очагов коммунистического сопротивления. Связь между развитием и демократией наиболее наглядна в Азии. В государствах региона созданы постоянно действующие демократические институты, причем приблизительно в той же последовательности, в какой эти государства начинали свой экономический подъем - от Японии и до Южной Кореи (где первые действительно свободные выборы состоялись в 1992) и Тайваня (где свободные парламентские выборы запланированы на конец этого года). Кроме того, в Китае, Таиланде и Бирме ряд демократических движений потерпел поражение, однако даже эти примеры свидетельствуют о существующей связи между развитием и демократией. Так, например, в Китае и в Таиланде лидеры продемократических движений, как правило, были относительно высокообразованными, космополитически ориентированными представителями "среднего класса" - тип личности, который начал возникать на ранних этапах ускорения экономического роста. Единственным исключением являются Филиппины - страна, где несмотря на самый низкий доход на душу населения из всех некоммунистических государств Юго-Восточной Азии, демократия утвердилась еще со времен выборов Корасон Акино в 1986 году. С другой стороны, не следует забывать, что демократии на Филиппинах не было бы, если бы не прямое влияние Соединенных Штатов. Кроме того, демократическая практика там не закреплена в стабильных демократических институтах, а сельские районы страны, где сохраняются полуфеодальные отношения, представляют собой один из немногих оставшихся в Азии очагов коммунистического сопротивления.
 В общем, было бы неудивительно, если бы демократия на Филиппинах внезапно рухнула, - ситуация, практически невозможная в Южной Корее или Японии. В общем, было бы неудивительно, если бы демократия на Филиппинах внезапно рухнула, - ситуация, практически невозможная в Южной Корее или Японии.
 Хотя теория модернизации сформулировала предположение о взаимозависимости между развитием и демократией, она не дала четкого анализа причинных связей между этими двумя явлениями. Некоторые сторонники теории модернизации, такие как Талкотт Парсонс, считали, что для современного индустриального общества демократия более "функциональна", чем авторитаризм. 5 В других своих работах я отмечал, что связь между этими двумя явлениями не выражается в экономических терминах. 6 То есть первоначальный порыв в направлении либеральной демократии возникает из внеэкономического стремления к "признанию". Таким образом, экономическая модернизация и демократия находятся в опосредованных взаимоотношениях: экономическая модернизация ведет к повышению жизненного и образовательного уровня населения и освобождает людей от определенной разновидности страха, вызываемой существованием на грани физического выживания. Это позволяет людям расширить свой диапазон целей, актуализировав те цели, которые оставались в латентном состоянии на более ранних этапах экономического развития. Одним из таких ранее потенциальных побуждений является желание получить признание своего человеческого достоинства как полноценной личности - признание, достигаемое путем участия в работе политической системы. На Филиппинах или в Сальвадоре помещикам удается уговорить бедных крестьян взяться за оружие и объединиться в эскадроны смерти, потому что ими сравнительно легко управлять, играя на их элементарных потребностях выживания и привычке подчиняться традиционным источникам власти. Гораздо труднее убедить образованных обеспеченных представителей среднего класса и квалифицированных специалистов, которые не готовы признавать авторитет лидера только на том основании, что на нем униформа. Хотя теория модернизации сформулировала предположение о взаимозависимости между развитием и демократией, она не дала четкого анализа причинных связей между этими двумя явлениями. Некоторые сторонники теории модернизации, такие как Талкотт Парсонс, считали, что для современного индустриального общества демократия более "функциональна", чем авторитаризм. 5 В других своих работах я отмечал, что связь между этими двумя явлениями не выражается в экономических терминах. 6 То есть первоначальный порыв в направлении либеральной демократии возникает из внеэкономического стремления к "признанию". Таким образом, экономическая модернизация и демократия находятся в опосредованных взаимоотношениях: экономическая модернизация ведет к повышению жизненного и образовательного уровня населения и освобождает людей от определенной разновидности страха, вызываемой существованием на грани физического выживания. Это позволяет людям расширить свой диапазон целей, актуализировав те цели, которые оставались в латентном состоянии на более ранних этапах экономического развития. Одним из таких ранее потенциальных побуждений является желание получить признание своего человеческого достоинства как полноценной личности - признание, достигаемое путем участия в работе политической системы. На Филиппинах или в Сальвадоре помещикам удается уговорить бедных крестьян взяться за оружие и объединиться в эскадроны смерти, потому что ими сравнительно легко управлять, играя на их элементарных потребностях выживания и привычке подчиняться традиционным источникам власти. Гораздо труднее убедить образованных обеспеченных представителей среднего класса и квалифицированных специалистов, которые не готовы признавать авторитет лидера только на том основании, что на нем униформа.
 Ситуация в Японии, по всей вероятности, также подтверждает существование связи между развитием и демократией. Конечно, формально Япония являлась демократическим государством с момента, когда генерал Макартур насильственно ввел в действие демократическую конституцию во время оккупации Японии войсками США. Тем не менее многие исследователи и наблюдатели как в самой Японии, так и за ее границами, отмечают, что западная демократия, с ее упором на публичное соперничество и индивидуализм, не очень хорошо согласуется с традиционной японской культурой. Некоторые даже утверждают, что несмотря на свой формально демократический строй Япония вовсе не является демократией в западном смысле этого слова, а скорее мягко авторитарным государством, управляемым союзом бюрократии, руководства Либерально-демократической партии и финансово-промышленных магнатов. 7 Ситуация в Японии, по всей вероятности, также подтверждает существование связи между развитием и демократией. Конечно, формально Япония являлась демократическим государством с момента, когда генерал Макартур насильственно ввел в действие демократическую конституцию во время оккупации Японии войсками США. Тем не менее многие исследователи и наблюдатели как в самой Японии, так и за ее границами, отмечают, что западная демократия, с ее упором на публичное соперничество и индивидуализм, не очень хорошо согласуется с традиционной японской культурой. Некоторые даже утверждают, что несмотря на свой формально демократический строй Япония вовсе не является демократией в западном смысле этого слова, а скорее мягко авторитарным государством, управляемым союзом бюрократии, руководства Либерально-демократической партии и финансово-промышленных магнатов. 7
 Однако, резкие политические сдвиги, произошедшие в Японии со времени падения правительства ЛДП в июле 1993 года, по-видимому, могут служить подтверждением некоторых посылок теории модернизации. Почти весь послевоенный период японский народ подчинялся власти треугольника чиновничество - ЛДП - бизнес, потому что этот альянс обеспечивал высокие темпы экономического роста для нации, раздавленной и обескровленной в результате поражения в войне на Тихом Океане. Однако, как это часто случается с авторитарным руководством, оно в конечном итоге перестало соответствовать своей роли и потеряло доверие общества. Оно председательствовало при создании "дутой экономики", лопнувшей в восьмидесятых, а кроме того, его разъедала глубочайшая и повсеместная коррупция. Если отсутствует налаженная "обратная связь" с населением, нет гарантии, что система будет самокорректироваться. Более того, по мере роста благосостояния и уверенности в завтрашнем у японского населения уменьшалось готовность доверять и подчиняться политическому руководству и смотреть сквозь пальцы на злоупотребления. Сейчас, конечно, весьма сложно предсказать результаты разворачивающейся в настоящий момент в Японии политической борьбы, однако представляется маловероятным, что старый правящий треугольник сможет сохранить свою власть в неприкосновенности в следующем поколении. Однако, резкие политические сдвиги, произошедшие в Японии со времени падения правительства ЛДП в июле 1993 года, по-видимому, могут служить подтверждением некоторых посылок теории модернизации. Почти весь послевоенный период японский народ подчинялся власти треугольника чиновничество - ЛДП - бизнес, потому что этот альянс обеспечивал высокие темпы экономического роста для нации, раздавленной и обескровленной в результате поражения в войне на Тихом Океане. Однако, как это часто случается с авторитарным руководством, оно в конечном итоге перестало соответствовать своей роли и потеряло доверие общества. Оно председательствовало при создании "дутой экономики", лопнувшей в восьмидесятых, а кроме того, его разъедала глубочайшая и повсеместная коррупция. Если отсутствует налаженная "обратная связь" с населением, нет гарантии, что система будет самокорректироваться. Более того, по мере роста благосостояния и уверенности в завтрашнем у японского населения уменьшалось готовность доверять и подчиняться политическому руководству и смотреть сквозь пальцы на злоупотребления. Сейчас, конечно, весьма сложно предсказать результаты разворачивающейся в настоящий момент в Японии политической борьбы, однако представляется маловероятным, что старый правящий треугольник сможет сохранить свою власть в неприкосновенности в следующем поколении.
 В шестидесятые и семидесятые годы теория модернизация подвергалась жестоким нападкам в основном с двух сторон. Во-первых, марксисты утверждали, что капиталистическая демократия не может считаться достойной целью политического и экономического развития, и что сторонники теории модернизации являются апологетами несправедливого мирового экономического порядка. Другая группа критиков, которых можно было бы назвать "культурными релятивистами", доказывали, что теория модернизации евроцентрична и не принимает во внимание разнообразие целей, диктуемых различными мировыми культурами. Сегодня марксистская критика стала менее слышной в связи с крахом коммунистической системы, однако критика релятивистов сохраняет свою силу и убедительность, в результате чего многие люди отошли от защиты единого пути развития для всего человечества, ведущего к демократическому обществу, основанному на экономике свободного рынка. В шестидесятые и семидесятые годы теория модернизация подвергалась жестоким нападкам в основном с двух сторон. Во-первых, марксисты утверждали, что капиталистическая демократия не может считаться достойной целью политического и экономического развития, и что сторонники теории модернизации являются апологетами несправедливого мирового экономического порядка. Другая группа критиков, которых можно было бы назвать "культурными релятивистами", доказывали, что теория модернизации евроцентрична и не принимает во внимание разнообразие целей, диктуемых различными мировыми культурами. Сегодня марксистская критика стала менее слышной в связи с крахом коммунистической системы, однако критика релятивистов сохраняет свою силу и убедительность, в результате чего многие люди отошли от защиты единого пути развития для всего человечества, ведущего к демократическому обществу, основанному на экономике свободного рынка.
 Некоторые критические замечания, высказываемые в адрес теории модернизации, имеют под собой определенные основания. Очевидно, чтобы теория сохраняла свою действенность, необходимо вносить в нее поправки в свете последующего опыта. История развития Англии или Соединенных Штатов не может считаться эталоном и критерием оценки более поздних преобразований в других странах. Не вызывает сомнений, что в современное общество ведет не один-единственный путь: страны, которые проходили через процесс модернизации недавно, шли совершенно иным путем (более заметная и существенная роль государства), чем их предшественники. Поистине трудно предложить универсальное правило порядка следования политической и экономической либерализации. Действительно, многие государства, в особенности в Азии, успешно перешли к демократии "авторитарным" путем, однако было бы нелепо предлагать бывшим коммунистическим режимам в Восточной Европе отложить демократические преобразования до осуществления рыночных реформ в экономике. 8 Более того, наблюдается существенное разнообразие способов осуществления капиталистических и демократических преобразований: японские корпорации и рынки труда в корне отличаются от своих собратьев в Соединенных Штатах, и нет никаких оснований полагать, что в ближайшем будущем мы можем стать свидетелями конвергенции японского и американского опыта. И, наконец, оказалось, что для того чтобы экономическое развитие привело к созданию условий, благоприятных для стабилизации демократии, требуется более длительный временной промежуток, чем полагали сорок лет назад: устойчивый экономический рост трудно достижим, а еще труднее создать демократические институты. Некоторые критические замечания, высказываемые в адрес теории модернизации, имеют под собой определенные основания. Очевидно, чтобы теория сохраняла свою действенность, необходимо вносить в нее поправки в свете последующего опыта. История развития Англии или Соединенных Штатов не может считаться эталоном и критерием оценки более поздних преобразований в других странах. Не вызывает сомнений, что в современное общество ведет не один-единственный путь: страны, которые проходили через процесс модернизации недавно, шли совершенно иным путем (более заметная и существенная роль государства), чем их предшественники. Поистине трудно предложить универсальное правило порядка следования политической и экономической либерализации. Действительно, многие государства, в особенности в Азии, успешно перешли к демократии "авторитарным" путем, однако было бы нелепо предлагать бывшим коммунистическим режимам в Восточной Европе отложить демократические преобразования до осуществления рыночных реформ в экономике. 8 Более того, наблюдается существенное разнообразие способов осуществления капиталистических и демократических преобразований: японские корпорации и рынки труда в корне отличаются от своих собратьев в Соединенных Штатах, и нет никаких оснований полагать, что в ближайшем будущем мы можем стать свидетелями конвергенции японского и американского опыта. И, наконец, оказалось, что для того чтобы экономическое развитие привело к созданию условий, благоприятных для стабилизации демократии, требуется более длительный временной промежуток, чем полагали сорок лет назад: устойчивый экономический рост трудно достижим, а еще труднее создать демократические институты.
 Тем не менее, существование важной взаимозависимости между развитием и демократией подтвердилось за последние пятьдесят лет. Из основоположников теории модернизации мало кто сегодня может или хочет встать на ее защиту. 9 Но они сдались слишком легко. Если определять демократию и капитализм достаточно широко и не проявлять догматизма в отношении способов и средств их достижения, тогда опыт азиатских государств может служить доказательством основного положения теории модернизации. Тем не менее, существование важной взаимозависимости между развитием и демократией подтвердилось за последние пятьдесят лет. Из основоположников теории модернизации мало кто сегодня может или хочет встать на ее защиту. 9 Но они сдались слишком легко. Если определять демократию и капитализм достаточно широко и не проявлять догматизма в отношении способов и средств их достижения, тогда опыт азиатских государств может служить доказательством основного положения теории модернизации.
|